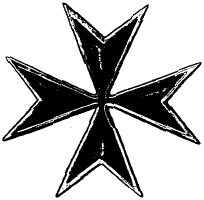Как организуются коммунистические манифестации
Советское правительство имеет претензию называть себя правительством рабочим, пролетарским. В таком случае казалось логичным предположить, что рабочий класс в России должен себя чувствовать удовлетворенным и довольным. С доказательствами в руках я констатирую противное: русский рабочий класс есть класс, наиболее притесняемый, несчастный и обманутый. Этот факт нужно подчеркнуть; я его тщательно наблюдал в различных отраслях промышленности и в разных местах.
В сов. России главной темой разговора рабочего является неизменно сравнение его настоящего положения с положением до революции. Если рабочий вас знает и вам доверяет, попробуйте подойти к нему открыто, и он вам скажет приблизительно следующее: “Нам объяснили, что до революции рабочий жил плохо, но я ел досыта и я кормил мою семью, мои дети ходили в школу. Мне говорят сегодня: теперь власть ваша, власть рабочих, а мне плевать на эту власть, при которой рабочий первый умирает с голоду…” Начинается длинный перечень обвинений, и, слушая его, вы поймете, что ни в одной стране рабочий не поставлен в такие тяжелые условия жизни и труда, как в сов. России.
Я здесь приведу несколько разговоров с рабочими, которые были недовольны старым режимом и активно помогали его свергнуть. Прежде всего я расскажу о рабочем С., который в 1925 г. служил кочегаром в депо на ст. Кавказской Владикавказской ж.д. Этот кочегар еще в революцию 1905 г. вел поезд, полный восставшими рабочими, в Ростов, на помощь революционерам. Значит, пред нами старый революционер рабочий. Он ожидал, конечно, от коммунистической власти чудес, которые в корне изменят к лучшему положение рабочего класса и его в частности. В действительности случилось следующее: его отрешили от должности за то, что он принадлежал в 1905 г. к партии с.-д. (меньшевиков).
Он прогулял без работы довольно долго; наконец, ему удалось найти работу в Ростове на службе Минеральных вод, но так как ему не хватало на пропитание себе и своей семьи, то после своей службы он ходил еще по домам и просил добавочной работы, как кровельщик. Еще до революции этот рабочий при помощи сбережений сделался маленьким собственником, а именно, он жил в собственном маленьком домике возле вокзала, вблизи места его работы. Я часто к нему заходил. Скромное довольство царило там. Ныне при рабочем правительстве он ютится с женой и тремя детьми в маленькой грязной клетушке, в пригороде. Трудно описать эту обстановку нищеты; не хватает даже посуды, и члены семьи соблюдают при еде очередь. Три поломанных стула и одна грязная постель — вот и вся их мебель. Я знал этого человека раньше, он был всегда прилично и чисто одет. Теперь он шьет одежды из старых полотняных мешков. Когда я ему предложил несколько мешков из-под муки из моей конторы Нансена, несчастный поблагодарил меня со слезами на глазах. Он сшил из них платья для себя и для своей семьи. Я узнал от него, что только раз в неделю он мог позволить себе роскошь иметь мясо за столом. Иметь молоко для детей стало недостижимой роскошью. Я предложил ему пакет чаю; он заваривал его в редких случаях, а ежедневно пил напиток из цветов акации. Иностранные делегации должны бы проникнуть в эти лачуги, должны бы найти путь для разговора с русскими рабочими, но туда, в эти лачуги, надо идти без сопровождения сов. гида, надо знать язык страны и иметь “доверие населения; тогда только можно узнать правду о его жизни.
Я говорил об С., как об одном из тысяч других. Вот, например, слесарь Янкель Я., рабочий завода “Аксай”: это один из важнейших заводов земледельческих орудий в России. 20 лет с детства он служит на этом заводе. С приходом коммунистов его грубо прогнали за принадлежность к меньшивикам. Хотя он отрекся от прошлого, его нигде не принимали, ему было отказано в работе, и он побирался от двери к двери, выпрашивая маленькие починки.
Я знал рабочего Павла К., который работает на табачной фабрике Асмолова, в Ростове-на-Дону, национализированной большевиками, перекрещенной в фабрику “Розы Люксембург”. Я был в общении с этим рабочим с 1911 г. Он мне признался недавно: “Я получаю теперь 58 рублей, но в день получки жалованья, когда я приближаюсь к кассе, мне показывают длинный список отчислений и всяких вычетов из моего жалованья: с меня удерживают взнос в профессиональный союз, за газеты, на которые меня принуждают подписываться; меня заставляют платить 50 коп. на Авиохим, с меня взыскивают 40 коп. на МОПР, столько же в пользу английских безработных, еще на поддержку заводского комитета и т.д. За всеми этими вычетами я получаю в конечном счете — 40 — 45 руб. Если вы пробуете протестовать, или хотя бы посмеяться над газетами, которых не читаете, над этими иностранными безработными и над всякими “Авиохим”, вас немедленно выгонят с завода, а в худшем случае и арестуют. Так случилось с тремя моими товарищами: их рассчитали, и коммунистическая ячейка, самое деспотическое учреждения, запретила категорически давать им работу где бы то ни было. Нужно молчать и брать 40 руб. Но что я на них куплю, если цены упятерены против довоенных. До войны я зарабатывал 65 руб. и я их получал сполна, до последней копейки. Это было время золота, все было дешевле: фунт белого хлеба стоил три копейки; сейчас я плачу за фунт белого хлеба 10 — 11 коп., черный хлеб — 6 коп., за масло, стоившее 20 коп. фунт, платится сейчас 1 рубль, одежда недоступна… Как же мне жить на мои 40 руб.? Рабочая жизнь в России — это адская жизнь, будь она проклята, эта ненавистная рабочая власть, под которой русский рабочий умирает с голоду. И коммунисты смеют нам говорить, что они работают для рабочего! Когда они нуждались в нас в момент революции, они кричали: вы будете жить все в дворцах, все будет ваше. Хороши же наши дворцы. Я платил за комнату до революции 10 руб. в месяц, и больше меня ничто не касалось. Я плачу за нее теперь 8 руб., но сверх того я плачу 5, 6 и даже 10 руб., которые мне присчитывают за воду, за ремонт, за канализацию и т.д., так что комната мне теперь обходится вдвое дороже, чем прежде.
Но положение К. относительно еще хорошее. Возьмем другой случай: вот рабочий простой смазчик, который получает от железной дороги 18 руб. 90 коп. в месяц. Этих денег ему не хватает даже на хлеб. Ничто так не обличает советского режима, как отчаянное положение рабочего класса в России.
Но больше того: это недостаточное жалованье выплачивается с опозданием на несколько месяцев; в марте выплачивают за январь, в январе за сентябрь… Этот факт вызвал однажды важные последствия: в 1925 г. в Москве рабочие текстильных фабрик активно запротестовали, не получая несколько месяцев жалованья. Несмотря на угрозу репрессий, они объявили, что прекращают работу и требуют уплаты жалованья в течение нескольких дней. Но государственные кассы были пусты. Законные власти взволновались, так как рабочих было десятки тысяч. Сверх того дело происходило недалеко от Москвы, и иностранные представители могли легко про это узнать. Если бы бунт разросся, то сов. правительство само очутилось бы в опасности. “Всероссийский староста”, товарищ Калинин, спешно выехавший водворить порядок и мир, вынужден был бежать ошиканный, освистанный, преследуемый камнями и выстрелами. Он бежал в автомобиле, под охраной и прикрытием чекистов. Тогда большевики поняли, что только деньги, необходимые для уплаты жалованья, могут спасти положение, и вот что они предприняли, чтобы их добыть: ГПУ послало своих секретных агентов на черную биржу, где шла нелегальная спекуляция с золотом и иностранной валютой; эти агенты начали продавать по низкой цене золото, фунты и доллары. Сначала спекулянты воздерживались от операций; мало-помалу, однако, они попривыкли и осмелели. На следующий день большие суммы, скрываемые до сих пор частными спекулянтами, были выброшены на рынок. В сквер возле Ильинских ворот появились толпы спекулянтов с чемоданами в руках, наполненными червонцами. Вдруг весь квартал оказался оцепленным войсками ГПУ, и граждане, захваченные в сети, должны были представить документы. Они были обысканы, а деньги, при них найденные, конфискованы. Я стоял возле дома на углу Маросейки, в Ильинском пассаже, и я видел своими собственными глазами то, что происходило в сквере. Люди опустошали карманы и бросали далеко от себя деньги, чтобы спасти свою жизнь. Сумки, мешки с деньгами валялись на земле, брошенные их собственниками, и аллеи сквера были усыпаны червонцами, как осенними листьями. Сотня людей была арестована. В тот же вечер текстильным рабочим было уплачено жалованье.
Когда несколько месяцев спустя я был заключен в Бутырки (знаменитая тюрьма ГПУ), я там нашел кое-кого из арестованных в тот день. Но что особенно интересно, — я нашел там и текстильных рабочих, арестованных на разных заводах Иванове-Вознесенска, где произошли беспорядки. Арестовали зачинщиков, после чего мир был восстановлен. Я видел таких 5 человек, из них каждый был осужден на 5 лет ссылки в Сибирь, в пустынные и нездоровые места Нарымского и Туруханского края. От них же я узнал, что по тому же делу было арестовано всего 90 человек, преданы суду и осуждены ГПУ.
Аналогичный факт произошел в Ростове-на-Дону. Ожидались волнения рабочих, так как нечем было платить рабочим жалованье. Товарищ Шатов, директор отделения государственного банка в Ростове, получил из Чека список лиц, работавших тайно на черной бирже. Он их призвал и предложил им продать на этой бирже по поручению банка иностранную валюту и царское золото. Они согласились и проделали операцию, после чего… их арестовали, как спекулянтов, и чека заставила их открыть имена покупателей. Последних посадили в тюрьму, а иностранная валюта, ограбленная у них, восстановила кассы банка. Один из них отказался назвать имена своих клиентов, за что был сослан на 5 лет в Нарымский край, где он и умер, не выдержав ужасного климата.
Вот как Чека наполняет пустые кассы советского банка, чтобы уплатить жалованье недовольным рабочим.
В Ростове в эпоху лихорадочного экспорта хлеба не хватило денег, чтобы уплатить грузчикам, которые угрожали остановить нагрузку. Администратор коммунального хозяйства на Дону, товарищ Гуревич, велел просто продать с аукциона ряд национализированных домов их старым собственникам.
Однако часто эти трюки не удавались. Тогда решаются платить жалованье талонами на выдачу товаров из кооперативов. В Донецком бассейне уплачивают часто рабочую плату таким образом. Но если в этих кооперативах можно найти духи, рисовую пудру, то там совершенно не хватает хлеба, сахара, обуви и других необходимых предметов для рабочих. Рабочий бывает принужден обращаться к спекулянту, который покупает эти талоны за 50 или 30 проц. их стоимости. Я знал одного рудничного рабочего в Горловке, мать которого умерла в Таганроге (приблизительно 150 километров от Горловки). Чтобы оплатить железнодорожный билет и отправиться на похороны, этот рабочий должен был продать свои талоны на товар, полученные вместо жалованья. За 18-рублевый талон он получил пять рублей, плюс 6 фунтов хлеба: но так как этой суммы ему не хватило, то он должен был еще разуться и продать свои сапоги. В Таганрог он приехал босой.
Вот как велики материальные достижения советской России.
Могут ли вообразить в Европе ту нищету, которую переносит русский рудокоп: рабочие живут в полуразвалившихся бараках, которые не защищены даже от дождя и снега. Несколько семейств живет вместе. Я видел маленькие клетушки, едва достаточные для двух; они были населены 9 и 10 рабочими. Другие живут в убежищах под землей, как пещерные жители. Женщины и мужчины спят вместе в одной куче, как животные; это ужасное сожительство вызывает самые порочные сцены. Венерические болезни господствуют. Однажды 200 жен рудокопов прибыли в Ростов, посланные Донецким бассейном, чтобы сортировать уголь кооперативных запасов. Их поместили в строении старой картонажной фабрики, дом номер 19 на Суворовской улице. Три недели спустя женщина-врач г-жа Перльман была прислана для их осмотра из комиссариата гигиены. Она нашла, что только 12 из них были здоровы, остальные 188 были больны венерическими болезнями.
Меня спросят, как это может быть, чтобы этот голодный и почти умирающий рабочий мог посылать миллионы английским забастовщикам и китайским революционерам? Но мы уже знаем, как поступают советы, чтобы урвать у рабочего его последние гроши на помощь безработным и революционерам всего света. Рабочие, мои знакомые, исчерпывающе разъяснили мне эту загадку.
Но есть еще другая вещь: и советская пресса и иностранцы, возвращающиеся из сов. России, нам описывают грандиозные рабочие манифестации, которые происходят в годовые праздники революции, или в знак протеста против империалистической политики Франции в Сирии, в Марокко, или против китайских властей, а в последнее время против антисоветской политики Англии. Как только в мире происходит что-нибудь, что не нравится советам и коммунистической партии, — целая волна “народных” протестов прокатывается по всей советской территории. Эта демонстрации, действительно, происходят; и по значительному количеству участников, иностранцы с полным основанием думают, что русский народ за советы.
Но в Европе не доискиваются, как советы достигают этих театральных эффектов и как соединяют эти массы для манифестаций. Иностранцы только справшивают себя: если рабочий класс страдает от советского ига, почему же он принимает участие во всех советских манифестациях? Да просто потому, что его присутствие на этих демонстрациях есть повинность, и чтобы освободиться от нее, нужно представить свидетельство о болезни за подписью врача. Рабочий, воздержавшийся от участия в демонстрации, немедленно заносится на черную доску коммунистической заводской ячейки или учреждения, где он служит. Если случай повторяется 2 раза, рабочий немедленно рассчитывается. Разными способами воздействуют в этом смысле и на остальных граждан. В Ростове, например, как, впрочем, и по всей советской территории, охотничьи общества должны так же делегировать своих членов на манифестацию. Эти охотники должны являться со своими ружьями и собаками. У тех, кто отказывается от участия, немедленно отбирается его охотничье свидетельство.
Сначала многие рабочие пробовали не принимать участия в этих демонстрациях. Они приходили до начала, становились в ряды и по дороге скрывались. Тогда коммунисты декретировали следующие меры — производится поименная перекличка три раза: на заводе в первый раз, на месте демонстраций — второй раз, и по окончании шествия, при возвращении, третий раз. Здесь участники возвращают свои знамена и, выполнив таким образом свой долг перед социалистическим отечеством, падая от усталости, получают, наконец, возможность вернуться к себе. Так как всякие демонстрации происходят довольно часто и приурочиваются к праздничным дням, то русский рабочий, таким образом, вместо праздничного отдыха должен отмеривать целые километры по улицам и площадям, таскать знамена с коммунистическими лозунгами, к которым он совершенно равнодушен, распевать глупые большевицкие гимны и доказывать всему миру свою солидарность с китайскими революционерами и свою привязанность к советскому строю. И все это только для того, чтобы не быть выброшенными на улицу и не умереть с голоду со всей семьей.
Советы эксплуатируют изо всех сил трудное положение рабочих, чтобы заставить заграницу верить, что народ с ними.
Я был в Ростове, когда представитель советов в Риме, Боровский, был убит Конради. Известие об этом убийстве пришло в Ростов рано утром, накануне праздника. Население узнало об этом к 10 или 11 часам утра из коммунистических газет. Вечерние газеты напали на Швейцарию и пространно описывали добровольную манифестацию населения, которая якобы имела место в Ростове. Газеты опубликовали пространно даже речи, произнесенные во время демонстрации против швейцарского правительства. С удивительными подробностями описывалось возмущение толпы против убийства товарища Воровского. “Трудовой День” и “Советский Юг”, издаваемые в Ростове, заполнили такими описаниями всю первую страницу. Не была забыта ни малейшая подробность. Ошарашенное население ничего не понимало в этом нагромождении лжи: каждый спрашивал себя, когда ж могла произойти подобная демонстрация, т.к. никто ничего не видел из описанного в газетах?
На заводах рабочие с удивлением читали описание их участия в мифической манифестации.
А дело произошло так: демонстрация была накануне, но по причине праздника невозможно было ее сорганизовать; газеты же опубликовали отчет манифестации, написанный по трафарету заранее. Зато на следующий день все было разыграно, как по нотам: оторвали рабочих от их работы, выстроили в колонны, всунули им в руки знамена, и демонстрация развернулась в точности, как она была накануне описана в газетах.
Вот что надо иметь в виду, когда мы в советской прессе читаем о грандиозных демонстрациях и об искренних протестах масс в сов. России. Я прибавлю, что сотни русских рабочих, с которыми я говорил откровенно, возмущались единодушно этими жульническими проделками советской власти.
Госплан нам сообщает официально, что 1 января 1927 г. 256 бирж труда зарегистрировали 1.271.000 безработных, а “Комсомольская Правда” указывала, что к этой цифре надо прибавить один миллион молодых людей, которые не работают и нигде не учатся, и что 250.000 учеников из приютов, 15-17-летнего возраста бродяжничают. Таким образом, даже по советской статистике (далеко не склонной к пессимистическим выводам) выходит: что к 1927 году в сов. России было 2.500.000 безработных. Эта цифра значительно превосходит общую цифру 1.900.000 рабочих, обслуживающих по советским данным всю промышленность сов. России. Прибавим к этому, что биржи труда отказываются регистрировать всех безработных: в действительности, количество безработных значительно возрастет и достигнет 5 млн., если прибавить сюда безработных из деревни. Так как сов. промышленность ухудшается с недели на неделю, то число безработных увеличивается очень быстро. По статистике “Госплана”, это увеличение между 1 октября 1926 г. и 1 января 1927 г. достигло” 19%. Большевики используют это несчастное положение русских рабочих, чтобы их эксплуатировать. Из страха потерять свое место и свою работу рабочий не смеет протестовать. Россия — единственная страна в мире, где рабочий не имеет права на забастовку, даже для защиты своих экономических интересов. Если он отваживается на организацию забастовки в государственном предприятии, — он рассматривается как контр-революционер, ГПУ его арестовывает и заключает в тюрьму. Наоборот, в редких частных предприятиях, где рабочий лучше оплачивается, советские, агенты часто провоцируют его к забастовке во вред его интересам. Вот пример, имеющий место на фабрике кожевенных изделий в Таганроге.
Таганрогский проф. союз заставил рабочих упомянутой фабрики бастовать. Следующая сцена произошла в моем присутствии: рабочие пришли к хозяину извиниться и объявили ему, что они его уважают, довольны им и вполне удовлетворены, но что профессиональный союз, руководимый коммунистами, насильственно заставил их сделать забастовку. Фабрика была закрыта, рабочие остались без работы и перешли в безработную массу. Этот самый профессиональный союз, который был прямой причиной их печального положения, не доставил им ни работы, ни поддержки. Объяснение этой истории очень простое: частное предприятие сделалось опасным конкурентом советскому предприятию; частный кожевенный завод в Таганроге платил дороже, производил предметы лучшего качества и дешевле. Когда рабочие поняли, что они были выброшены Таганрогским советом профессионального союза из-за этих соображений, они пошли в рукопашную, и плохо пришлось представителям профессионального союза: они были серьезно избиты…
Русский рабочий после долгого и тяжелого опыта узнал, что его самый неумолимый враг — это коммунистическая партия. Пролетарии всех стран соединяйтесь, чтобы победить самого опасного врага — коммунизм.
Крестьяне в России составляют около 90% всего населения. Обязательства, взятые коммунистами по отношению к этому классу, были очень большими. Они им обещали всю землю государства и крупных помещиков и обязались, если не отменить, то, по крайней мере, значительно уменьшить налоги. Что произошло в действительности, когда власть перешла в руки большевиков? — Земли были отобраны от их собственников, но коммунисты воздержались передать их бесплатно крестьянам. Лучшую землю они сохранили, чтобы создать из этих прежних частных владений различные “совхозы”, “племхозы”, “земхозы” и другие образцовые хозяйства, превратившиеся в конечном счете в синекуры, которыми в настоящее время пользуются только господа местные коммунисты. Советская статистика подтверждает, что в сов. России около 20%, земель, составлявших раньше собственность помещиков, и при том лучших, принадлежит теперь различным советским организациям. Следо-вательно, оказалось, что крестьяне лишены 20% лучших частно-владельческих земель. Любопытно отметить, что советы, которые начали с отобрания земель у старых помещиков, передают некоторые имения в пожизненное пользование достойным революционерам, как они это сделали по отношению к Морозову и многим другим лицам, полезным коммунистическому делу.
Затем, целые пространства земель, отнятых у помещиков, были отданы крупным концессионерам. Напр.: крупная концессия Круппа на Дону, которая захватила несколько десятков тысяч гектаров, концессия Нансена, еврейская концессия и т.д. Кроме того, сов. власть не стесняется и у самих крестьян отбирать участки земли, как это имело место в трудную пору, когда голод свирепствовал в стране, и когда крестьянин не имел возможности аккуратно вносить земельные подати. За неплатеж у него просто конфисковывали его землю, и это происходило на Кубани, на Дону, на Тереке, в Ставропольском районе и т.д. Таким образом, свое обещание отдать всю землю крестьянам большевики не сдержали.
Их второе обещание — уменьшить налоги — постигла та же участь. Раньше всего они попробовали осуществить коммунистическую мечту на местах: они отбирали у крестьянина все земледельческие продукты, обещав ему взамен поставку промышленных изделий, необходимых для его существования. Ни одно их этих обещаний не было выполнено. Крестьяне были так хорошо обобраны, что им едва хватило зерна, чтобы прокормиться до следующей жатвы и иметь остаток на обсеменение. Я жил в это время в деревне, и на моих глазах происходил этот грабеж. Крестьянин дал себя ограбить. Не говоря о хлебе, большевики отняли у него все, что могли. На Кубани крестьяне обязывались доставлять 2 фунта масла от каждой коровы, 2 кило белого сыра ежемесячно и три яйца с курицы. Сверх того, они должны были поставлять 5 кило мяса с головы скота ежегодно. Благодаря этой системе, коммунисты собирали огромные запасы, которые вследствие их бездарного хозяйничанья портились на складах наполовину, а может быть в большей части, и гибли без пользы для людей. Масло, которое забыли посолить, становилось горьким; белый сыр плесневел, свиньи, которых тащили массами, заставляя их делать десятки километров, отделяющих в России многие деревни от центра, и при том в удушающую жару, издыхали в пути. Погибали огромные богатства, и результатом этих бессмысленных хозяйственных приемов явился голод, какого еще никогда мир не видел до сих пор.
Советская власть имеет на совести свыше 6.000.000 жертв, умерших от голода и эпидемий. Ленин — первый признал полный крах коммунизма и, как выход их положения, ввел НЭП (новая экономическая политика). Натуральный налог с деревни, в виде отобрания излишков, был отменен и заменен денежным налогом, размеры коего непрерывно увеличиваются.
Вот таблица того, что крестьяне уплатили государству налогами:
Год 1923-24…………… 557 милл.руб. червонных
1924-25………………….. 728
1925-26………………….. 925
1926-27………………….. больше миллиарда.
Так как национализированная промышленность была неизменно убыточной, то все ресурсы сов. власти заключались в крестьянских налогах. Советы, являясь монопольными покупателями, искусственно понижали цену на земледельческие крестьянские продукты сравнительно с товарами фабричными. Это привело к тому, что за одно и то же количество зерна крестьянин не может купить и трети того, что он покупал до прихода коммунистов к власти.
Положение было таково: налоги вместо уменьшения возрастали. Крестьяне ответили переходом к примитивному хозяйству, чтобы защищить себя от эксплуатации советов, держащих внутренний рынок и всю промышленность в своих руках. Сборщики податей взимают подати в деревнях с неумолимой жестокостью. Подати должны быть уплачены во что бы то ни стало, без малейшего промедления, под угрозой жестоких кар. Вот несколько примеров: я знал от того крестьянина, Алексея П., жителя Кубанской области, станицы Старолешковской; он задолжал казне 20 руб. Незадолго до того у него пала лошадь, и так как это несчастье случилось во время горячих весенних работ, то он должен был затратить все свои деньги на покупку другой лошади. Совет призвал его и объявил ему, что он должен немедленно уплатить свои налоги. Напрасно он просил хоть краткой отсрочки: — ему объявили, что последний срок должен быть завтра после обеда. Алексей П. не мог найти необходимой суммы, и вечером, когда он вернулся с работы, солдат из милиции его ждал с мандатом о секвестрации его имущества. У него отняли его лошадь и продали с аукциона для уплаты налога, и несчастный крестьянин остался без лошади как раз в горячую пору крестьянской работы.
Другой аналогичный случай произошел в соседнем селе, станицы Каниболотской. Казак К. задолжал в казну 218 руб. Он протестовал против этой цифры, показывая, что его площадь обсеменения была на несколько гектаров меньше, чем та, которую определила власть для установления налога. Но все его протесты оказались напрасны: инспектор ссылался на текст советского закона, который говорит, что плательщик обязан сначала уплатить требуемую с него сумму (как бы она ни казалась невероятна), потом он мог доказывать незаконность налога. К. фактически уплатил только 130 руб., которые отвечали фактически площади его обсеменения. За бесценок было продано все его движимое имущество, и ему остался только пустой дом. Три месяца спустя областное финансовое отделение гор. Ейска признало его претензию законной, постановив, что 88 руб. должны быть ему возвращены. Ему их уплатили, но его имущество, стоившее по меньшей мере триста рублей, было в свое время продано с аукциона за эти 88 руб., и, конечно, никто ему не возместит его потерь от разорения.
Часто взимание налогов принимает более трагический характер. Станицу Рождественскую (в Кубанской области) постиг плохой урожай, и жители не могли внести сполна государственных налогов. Общее собрание станицы просило об уменьшении налогов. Власть ответила, что если налоги не будут уплачены сполна и в назначенный срок, их взыщут силой. Времена были тяжелые, недостаток в хлебе и в деньгах, не знали как прожить до следующего урожая, и налоги не были внесены вовремя. Спустя неделю коммунисты начали свои репрессии. Они объявили станицу в осадном положении и разместили там отряд солдат от 15 до 20 человек. Этот отряд начал с того, что взял заложников между жителями и объявил, что если налоги не будут внесены немедленно, то каждый пятый из заложников будет расстрелян. Со стороны жителей были сделаны все усилия собрать деньги, но, конечно, всей необходимой суммы не было собрано, и заложники были расстреляны. Вся станица поднялась, как один человек, — солдаты отряда, не успевшие бежать, были перебиты. Двоим, троим из них удалось однако бежать на ст. Тихорецкую (за 12 километров) и вызвать панику в местном совете. Немедленно снарядили соседние гарнизоны, и два поезда красных солдат татарского происхождения были посланы на места. Отряд специального назначения вышел поспешно из Ростова-на-Дону им на помощь. Восстание было потоплено в реках крови, масса жителей была расстреляна на месте. ГПУ арестовало десятки людей, которые были сосланы на Соловецкие острова или в Сибирь. Имущество жертв было продано для уплаты налогов.
С такими же осложнениями взимание налогов произошло в области Сальской и Хоперской на Дону, в Ставропольском районе и в Старобельском округе Харьковского района, на Украине. В 1926 г. этот факт повторился на С.З. в г. Острове, и все это факты совершенно достоверные, не говоря уже о целом ряде других случаев, которые до меня доходили через свидетелей-очевидцев отовсюду понемногу.
Когда я сам был арестован, в тюрьме я имел случай встретить крестьян, осужденных на 3, 5, и 10 лет ссылки в Сибирь и на Соловецкие острова за так называемую контр-революцию, выразившуюся в неуплате налогов. В апреле 1926 г., когда я был заключен в Псковскую тюрьму, которая носила название исправительного дома труда, я там встретил 9 крестьян, которые были арестованы за невзнос налогов. В тот же месяц я встретил в гор. Острове 17 крестьян, арестованных за то же преступление. Описывая советские тюрьмы, я снова вернусь к крестьянам-жертвам красного террора, населяющим большей частью советские тюрьмы.
Налоги, взваленные советской властью на русское крестьянство, так велики, что часто крестьянин , уплатив их, остается в одной рубашке, и это в буквальном значении этого слова. Вот пример: Аким К., крестьянин Рязанской губ., еще до прихода в Ростов-на-Дону, в качестве каменщика, чтобы заработать на покупку лошади и коровы. Жена его осталась дома, едва сводя концы с концами. Благодаря своему трудолюбию и ее бережливости, Аким К. к моменту прихода сов. власти в Ростов имел уже на что купить 2 коровы и пару лошадей. Как только железнодорожное сообщение наладилось, Аким К. погрузил в вагон купленных животных и кое-какой свой скарб и отправился домой. Я видел его как раз в то время веселым и счастливым, и я говорил с ним до его отъезда. Судите о моем удивлении, когда я снова увиделся с ним некоторое время спустя в Ростове; он был в нищенском и несчастном положении. Он просил у меня работы, и когда я спросил его, — что случилось, он в самых грубых выражениях стал проклинать сов. власть, коммунистов и всех их агентов. Оказалось, что Аким К., собственник пары лошадей и двух коров, был объявлен “кулаком” и обложен такими налогами, что ему пришлось продать не только животных, но вдобавок к этому свой дом и все имущество, и все это для того, чтобы иметь возможность уплатить определенньй ему налог. Он оставил временно свою жену у своего брата Ивана и отправился опять в Ростов. Часть пути он сделал пешком, а часть “зайцем” на площадках товарных вагонов. Он потерял всякую охоту заниматься земледелием и сказал мне положительно следующее: “Нечего сказать, большевики дали мне хороший урок и отняли у меня навсегда охоту заниматься земледелием, они совершенно задушили меня: кроме денег я еще должен был платить натурой. Местный совет обязал меня каждые 10 дней перевозить почту: среди недели меня отрывали от моего поля и заставляли принудительно перевозить за 30, 40 верст коммуниста-комиссара в то время, как мои снопы оставались гнить среди поля под дождем”.
Как только крестьянин работает добросовестно и успешно на своей земле, большевики смотрят на него, как на кулака, перегружают его чудовищными налогами и преследуют политическими угрозами и репрессиями.
Прямое следствие этих приемов то, что крестьяне колеблются развивать и улучшать свое хозяйство, чтобы не попасть в категорию кулаков. Они наполовину уменьшают свою посевную площадь и производят только самое необходимое для своего пропитания. Никакой земледельческий прогресс невозможен при этих условиях. Вот истинная причина того, что Россия, бывшая житницей Европы, теперь почти не вывозит хлеба при сов.режиме, и в сущности сама часто нуждается в привозном хлебе. Экспорт же хлеба производится сов. властью в интересах пропаганды, и вот несколько тому доказательств.
Миссия Нансена, от которой я был представителем на юге России, получала значительное количество муки из-за границы, чтобы кормить голодное русское население. Эта мука прибывала к нам через Ригу и с юга через Новороссийск, пс Черному морю. В 1923 г., когда голод несколько затих, миссия занялась специально оказанием помощи детям и студенчеству. Центральная администрация миссии знала, что в Новороссийске находится запас пшеницы около 5.000 тонн, принадлежащий сов. власти. Мне было поручено вести переговоры с сов. властью о покупке на месте этой пшеницы для нужд нашей миссии. Я знал, что этот запас находился в распоряжении тов. Брайникова, уполномоченного народного комиссариата продовольствия (теперь этот комиссариат упразднен). Полагая, что дело по существу просто и несложно, я делегировал моего секретаря к тов. Брайникову. Однако, секретарь явился с известием, что комиссар категорически отказал в этой продаже. Так как я знал, что этот запас предназначался к вывозу за границу, я поехал лично осветить этот вопрос и выяснить мотивы этого отказа. Брайников меня принял очень любезно, и вот каков был наш разговор:
Я: — “Это правда, товарищ, что вы отказываете, как мне доложил мой секретарь, продать миссии Нансена 300.000 пудов зерна, которыми вы располагаете для экспорта заграницу? Мне кажется, что операция, которую я вам предлагаю, была бы полезна столько же нам, как и вашему правительству. Миссия может вам заплатить ту же цену, какую вы получите на заграничных рынках, и вы сэкономите расходы по нагрузке и фрахту. Сверх того, это зерно даст работу вашим мукомольным мельницам, и не забывайте в особенности, что миссия делает эту закупку для голодающих вашей же страны.
Б: — “Я вполне согласен с вашими доводами, г-Дуйе, но, к сожалению, это зерно имеет совсем другое назначение”.
Предполагая, что советы хотят непременно вывезти этот хлеб, чтобы приобрести заграничную валюту, я ответил тов. Брайникову:
“Если ваша цель — получить заграничную валюту за это зерно, то я вас предупреждаю, что миссия в состоянии вам уплатить по вашему выбору будь то в английских фунтах, или долларах”
Брайников: “Извините меня, г.Дуйе, но хотя мы очень нуждаемся в заграничной валюте, однако цель нашего экспорта не в том: наша настоящая цель — это показать во что бы то ни стало наш хлеб на заграничных рынках, и я предупреждаю вас, что если даже вы обратитесь к центральной власти в Москве, то и там вы получите на ваше предложение отказ”.
Здесь мои переговоры прекратились: как видно, большевицкая пропаганда стоит выше народного страдания и ужасов голода.
Чтобы дополнить эту картину положения крестьянина в сов. России, я расскажу, как производятся выборы в сов. деревне. С первых же дней коммунизма свобода выборов совершенно уничтожена, их не существует в сов. России; есть только выборы насильственные. Я присутствовал многократно на выборах в деревне: откровенное насилие практиковалось на виду у всех, и с оружием в руках заставляли людей голосовать за коммунистический список. Вот картина сельских выборов, которую я наблюдал однажды в станице Новолешковской.
Церковная площадь была черна народом. Посредине возвышалась трибуна, занятая пятью коммунистами, которые представляли местную власть. Товарищ Убикон (председатель месткома) произнес речь. Перечислив все блага, которые коммунизм дал народу, и все чудеса, которые он даст в будущем, он просил перейти к выборам. Вот приблизительно с какими словами он обратился к толпе:
Т.Убикон: “Есть 3 списка, один из них от коммунистической партии. Кто против этого списка — пусть поднимет руку.” Одновременно Убикон и его 4 товарища вынули свои револьверы и оглядели толпы крестьян. Убикон продолжал: ”кто же против этого списка? — Никто. Я объявляю, что коммунистический список прошел единодушно, бесполезно уже голосовать за другие списки…”
Это продолжалось из года в год, и население хорошо поняло, что значит “советское голосование”. Последнее время сов. правительство, желая улучшить свои отношения с крестьянами, которые отказались продавать хлеб для экспорта, уменьшило свои выборные репрессии и допустило некоторую свободу выборов. Обрадованное и благодарное население ответило на эту милость на Кубани, например, тем, что на выборах 1925 г. в сельских местностях были забаллотированы почти везде коммунистические списки. Сов. правительство заволновалось и объявило произведенные выборы незаконными. Были устроены перевыборы и чтобы гарантировать успех за коммунистами, в иных местах до 50 проц. сельского населения было лишено права голосования: как бывшие священники, кулаки и т.д.
Теперешнее положение русского крестьянина под бичом коммунизма кошмарно, и он вполне отдает себе в этом отчет. И потом сельское население поистине антисоветское и антикоммунистическое. По всей стране без исключения одна молитва несется к Богу от каждой деревни: пусть Бог поможет, наконец, падению сов. власти. Худшая из властей будет лучше коммунистической.
Крестьянские волнения никогда не прекращаются в России. Вот один факт, который приезжавшие в Россию иностранцы, конечно, не заметили, но который красноречивее всего свидетельствует о взаимоотношениях сельского населения с сов. властью. На юге и в особенности на Кубани, в каждой деревне на площади возле помещения местного совета можно видеть столб, обернутый соломой, пропитанный керосином или нефтью. Дело в том, что первое, к чему прибегают восставшие крестьяне, — это перерезывание телефонных и телеграфных проводов, дабы лишить возможности местных агентов советской власти вызывать помощь из центра. Вот на этот случай местные агенты и вкапывают столб, обложенный соломой. При первой опасности они зажигают его и тем дают сигнал соседним советским властям.
Как видите, едва ли доверие царит между законной властью и ее избирателями. Советская власть в русской деревне, как в завоеванной стране, поддерживается только силой штыков и террором.
Когда рассматриваешь материальные результаты советского режима для России, то приходится констатировать, что ни рабочим, ни крестьянам он не принес улучшения их материального положения, и нет основания думать, что это изменится к лучшему в будущем. Все, наоборот, свидетельствует о том, что обнищание страны и населения под сов. режимом только прогрессирует и скоро приведет Россию к банкротству и последним границам бедности. Коммунисты имели 10 лет, чтобы что-нибудь создать, а вместо созидания они дали миру неопровержимое доказательство своей способности только разрушать. Но, может быть, коммунизм дал человечеству положительные результаты в области духовной и моральной? Может быть, он внес что-либо новое, положительное в вопросах воспитания, образования, создал условия для морального и физического прогресса народа? Я провел долгие годы в России, интересовался этими вопросами и их изучал на месте с беспристрастием, стараясь найти в этой области положительные достижения сов. системы. И именно в этой области я наткнулся на факты, непреложно осуждающие коммунистическую идеологию так же, как и всю административную советскую систему. Большевизм показал себя в этой области во всей своей отрицательной и разрушительной силе.
Коммунизм в России привел к крушению морали, к насаждению разврата, анархии и безнравственности в таких формах, каких не знала вся история человечества.
Начнем с народного образования. Большевики упрекали старый режим в пренебрежении к народному образованию; они обвиняли старую власть даже в том, что она боялась слишком образованной массы. Что же сделали они сами в этой области? О положительных достижениях здесь они не посмеют говорить, хотя бы по одному тому, что число школ при советах явно уменьшилось в сравнении с довоенным, в особенности в деревнях. Я присутствовал при закрытии школ, происходившем на моих глазах. В станице Новолешковской на Кубани до прихода большевиков было 2 гимназии для мальчиков и для девочек, 6 начальных школ правительственных и две школы частных. Теперь, при советском режиме, из этих 10 школ остались 1 гимназия и одна школа начальная. Остальные 8 были уничтожены. Станица Каменская (Донская область) имела 2 реальных училища, одну гимназию и одно коммерческое училище, не считая начальных школ. Советы закрыли все эти школы и оставили только одну гимназию и несколько начальных школ. В селе Беловодске, Харьковской губернии, на Украине была гимназия для мальчиков, которую коммунисты поспешили уничтожить. Коммерческая школа возле Тихорецкой станицы была обращена большевиками в театр-клуб, а женская гимназия и школа мостов и шоссейных дорог Владикавказской железной дороги были уничтожены совершенно. Я мог бы назвать сотни школ, которые были уничтожены на моих глазах.
При старом режиме начальные школы были бесплатные, а в гимназии плата самая умеренная. Захватив власть, большевики обещали народу бесплатное общее образование. Но это было только на словах; в действительности в школах, где при старом режиме учили бесплатно, ныне коммунисты требуют плату. Они взимают деньги не только за учение в школе, но за содержание, ремонт и отопление помещения. Когда-то ученик получал бесплатно в земских школах книги, тетради, карандаши, перья и т.д. Теперь ученики вынуждены их покупать на свой счет. Например, в деревне Сагуны Воронежской губ. отпускали одну тетрадь на ученика в году и один карандаш на двух учеников. Что касается школ второй степени (прежние гимназии и прежние реальные училища), там так же платят вдвойне: за нравоучение и на поддержание школ, причем плата превосходит в несколько раз довоенную. До прихода большевиков в Ростовской гимназии платили 50 руб. в год, в 1926 г. один мой знакомый, служащий в сов. учреждении, платил за каждого из своих троих детей по 12 руб. в месяц, что составляет за 9 месяцев 108 руб. с ребенка, плюс к этому обложение на содержание помещения, отопление, освещение его и т.д. Если иногда безработные освобождены от платы, — никто не освобожден от обложения, и даже самые бедные обязаны внести деньги на содержание помещения и т.д. Невзнос денег сопровождается немедленным исключением ребенка. Сын смазчика Якова С., служащего на Владикавказской жел. дороге, получающего 19 руб. в месяц, был исключен из гимназии за невзнос денег.
Но есть еще большая разница в методах старой русской школы и теперешней — большевицкой: в прежней школе обучали детей наукам, как и везде во всем свете; ныне в советских школах наука не на первом месте. Было объявлено главной задачей — внедрить в детей политические и социальные идеи коммунизма. Всякая школа в сов. России есть прежде всего рассадник коммунистической пропаганды, насаждаемой между подростками. Политическая азбука коммунизма есть первый предмет обучения. Ученик, знающий эту азбуку и не знающий ничего по всем другим предметам, переходит в высший класс; если же наоборот, он не знает политической азбуки, его оставляют на второй год, а часто даже исключают.
Вот что произошло в школе второй ступени в Ростове-на-Дону, в бывшей Екатерининской женской гимназии: 17 учащихся обоего пола были оставлены на второй год, потому что дали плохие ответы на следующий вопрос: “что постановили 14 и 15 съезды советов?” Заметим, что, когда этот вопрос был поставлен ученикам, 15-й съезд еще и не состоялся. Дети, которым этот вопрос был поставлен, имели от 12 до 15 лет. Я знал очень хорошо одного из них, маленького Павла А., 13 лет. Он забыл, что последний съезд шел под цифрой 14, и, вместо того, чтобы ответить, что 15-й съезд еще и не состоялся, он перечислил резолюции, принятые на последнем 14-м съезде. Его оставили на 2-й год. Вообразите себе во Франции министра народного просвещения, который приказал бы оставить на 2-й год ученика, не сумевшего ответить на вопрос: “что решил последний конгресс партии радикал-социалистов?”
Не забывайте, что дело идет о детях от 12 до 15 лет. Это кажется чудовищным, однако это самый обыкновенный эпизод из повседневной жизни советской России.
Я расскажу сейчас факт почти невероятный, скорей смешной, если бы не было грустно до слез. Один студент-медик Ростовского университета часто бывал у меня (Николай С.). Его заставили повторить 4-й курс, потому что на экзамене по политической азбуке он не ответил на следующий вопрос: “Какого рода бороду носил Карл Маркс, какие волосы имел Ленин?” В Европе на подобный вопрос посмотрели бы как на плоскую шутку. Николай С. не ответил на этот вопрос и должен был потерять целый год. Потом он узнал, что от него ждали следующего ответа: “Ленин почти не имел волос, а Карл Маркс имел большую бороду”. На медицинском факультете того же университета кончающей студентке Анне И. дали такое напутствие: “Сов. республика вам выдает диплом доктора медицины, но не забывайте, что ваш долг лечить не только тело ваших пациентов, но также проникнуть в их политические убеждения. Больной человек часто откровенничает со своим доктором. Последний обязан, как чекист, член ГПУ, быть всегда готовым защитить революцию. Помните, что вы будете ответственны, если, заметив среди ваших бальных контр-революционные мысли, вы не донесете немедленно в ГПУ”. Анна И. не единственная, получившая столь возмутительные для врача напутствия. Я знал на этом самом медицинском факультете студента Эдуарда Шурпе. Этот студент почти не посещал лекций, был невеждой, почти безграмотный, но он сдавал регулярно свои семестры и аккуратно переходил каждый год на следующий курс. Он окончил свое учение и получил диплом д-ра медицины, потому что он был членом “тройки” университета. Эта группа “трех” есть коммунистический орган, очень могущественный. Это он пропускает через свою цензуру профессорские лекции. Эта “группа” присутствует на экзаменах, имеет решающее значение в окончательной оценке кандидата. Мнение профессора второстепенно. Шурпе должен был присутствовать ежедневно на 5 или 6 заседаниях: то в коммунистической ячейке, то в исполнительном комитете, то в группе “трех”. Он, конечно, не имел времени работать для науки, и он мне сам очень цинично в этом сознался. Профессора расценивали его, как невежду, но не осмеливались провалить его на экзамене, зная, что рискуют своей собственной безопасностью. Сейчас Шурпе — доктор медицины, научный сотрудник университета. Он продолжает быть, членом группы “трех”, он фактически почти ректор университета. Это благодаря ему и его коллегам Хенкину и Доршту, остальным членам группы “трех” и в то же время агентам ГПУ, десятки студентов Ростовского у-та были сосланы в Сибирь.
Из этого всего читатель может сделать вывод, как поставлено преподавание в советских университетах и какую ценность может иметь сов. диплом. Я имел официальную миссию поддерживать и питать тысячи студентов от имени миссии Нансена и др., мне случалось иметь в руках тысячи прошений, написанных студентами, ходатайствовавшими о прaвe питания в даровых столовых, открытых этими учреждениями. 75% этих просьб были написаны с такими стилистическими и орфографическими ошибками, что наводили на сомнения в том, что их авторы были студенты. При старом режиме ученик первого класса гимназии подучил бы выговор за такую орфографию. Ныне, благодаря советскому режиму, студенты, будущие адвокаты, медики, историки и ученые, не умеют правильно написать простого прошения.
В сов. школах, которые служат только для коммунистической пропаганды, исключены из программы все науки, которые могли бы вызвать у ученика тень сомнения в безгрешности марксистских и материалистических идей. Сов. школа тщательно закрывает от взора учеников все, что находится вне коммунизма. Верх коммунистического творчества, переходящего в явный абсурд, представляет собой, так называемый. Свердловский университет: этот университет приготовляет будущих народных комиссаров, красных дипломатов, будущих начальников и администраторов из коммунистов, которые придут на смену теперешним правителям. Только коммунист может состоять студентом университета Свердлова. Прием в этот университет производится при следующих условиях: областные коммунистические комитеты намечают кандидатов в этот университет, выбирая их тщательно между членами коммунистической партии. Предпочтение отдается национальным меньшинствам, наименее культурным, как чуваши, черемисы и т.д. Кандидат не должен иметь выше определенного уровня знаний; кандидат должен знать не больше 4 правил арифметики, уметь писать и знать немного географию. Это для того, чтобы мозг кандидата был бы свободен от всякой науки и всякого лишнего знания, чтобы не было никакой помехи к прививке марксизма и ленинизма. Кандидат должен очень мало знать и все выучить в университете. Только при этих условиях, оказывается, можно воспитать настоящих коммунистов.
Как слаба власть, которая боится образования граждан, которыми она управляет! Становится все более и более очевидным, что коммунизм есть абсурд, не имеющий права на существование.
Вот еще типичная сцена, свидетелем которой я был в сельской школе: на ст. Тихорецкая, в 171 версте от Ростова, я должен был присутствовать на осмотре детей школы; так как я хорошо знал эти места, я отправился к школе гораздо раньше официально назначенного часа: я пришел туда в половине десятого утра, когда меня совсем не ждали, и прямо направился в класс, где уроки только что начались. Перед кафедрой стоял мальчик лет восьми-девяти, возле него находилось два лица: один секретарь коммунистической ячейки, другой был учитель школы. Вот диалог, который я услышал:
Учитель: — Скажи, Ваня, ты молишься Богу?
Ребенок: — Да, товарищ учитель, я молюсь Богу.
Учитель: — Твой Бог тебе дает то, что ты просишь?
Ребенок молчит.
Учитель: — Хочешь, попробуй, попроси сейчас Бога, чтобы Он дал тебе хлеба, ты, должно быть, голоден?
Ребенок: — Да, я очень голоден.
Учитель: — Превосходно, — молись Богу, кто знает, может быть твой Христос даст тебе хлеба.
Ребенок с некоторым колебанием становится на колени, крестится своей маленькой ручкой и начинает класть поклоны до земли, как он это видел в своем родном доме. Было трогательно видеть горячую и простую веру ребенка; но черные вороны, сторожившие его, через несколько минут прервали молитву ребенка и спросили его:
Учитель: — Ну, что, Ваня, твой Бог дал тебе хлеба?
Ребенок со слезами на глазах, не понимая, чего от него хотят, но предчувствуя что-то, отвечает: “Нет, Бог мне ничего не дает”.
Учитель: — Ну, вот видишь, что такое твой Бог; вместо того, чтобы просить хлеба у него, попроси лучше у товарища коммуниста; ты увидишь, что товарищ тебе его даст.
И голодный ребенок послушался и покорно повторил: “Товарищ, дай мне, пожалуйста, хлеба”.
Коммунист: — Надо было с этого начать. Если бы ты прямо обратился ко мне, я бы тебе сразу дал хлеба. Ты обращаешься к Богу, но разве ты Его видел? Нет, потому что Он не существует. — Тут он вынимает из кармана своей кожаной куртки белый хлеб и дает его ребенку.
Я, признаюсь, не имел достаточно моральных сил вынести эту сцену, которой я был бессильным и немым свидетелем: я не мог вырвать ребенка из рук жестоких варваров. Я покинул школу со слезами на глазах и отправился в Ростов, не ожидая официальной ревизии. Несчастные русские дети обречены оставаться в преступных руках подобных учителей. Пусть те, кто имеет детей и любит их, отдадут себе отчет в этом факте.
Граждане европейских стран! Перед вами нравственньй долг запретить вашим правительствам протягивать руку этим негодяям и помешать нашим дипломатам признавать это правительство бандитов.
В Ростове в коммунистической школе второй ступени (прежнее реальное училище) приказано было детям в возрасте от 14 до 17 лет заполнить анкету по половому вопросу; я имел в руках эту анкету, мне дали ее родители детей, которых открыто и официально старались развратить. Между вопросами, на которые должны были ответить подростки от 14 до 17 лет, находились следующие: “когда вы совершили ваш первый половой акт”, “с кем вы его совершили”, “каковы были ваши ощущения”, “были ли последствия и какие”, “совершаете ли вы часто и через какой промежуток времени ваш половой акт”… И такие вопросы чередовались, один возмутительнее другого.
Советская школа развращает детей систематически и преднамеренно:
Еще один факт: в том же городе Ростове детям от 10 до 13 лет в школе второй ступени (бывшая гимназия Степанова) была дана для чтения в класс книга Бориса Пильняка, под заглавием “Голый год”. И весь этот том есть сплошная порнография, которая читается детьми обоего пола, так как советские школы смешанные. Человеческий словарь слишком беден, чтобы найти достаточно сильные выражения для того, чтобы заклеймить эти грубые выражения и описания циничных и грязных актов в их мельчайших подробностях.
Коммунисты установили в школах С. Р. периодические операции политической чистки тех из учащихся, которых находят политически подозрительными, исключают из университетов и даже арестовывают, или ссылают на Соловецкие острова и в Сибирь. Часто одно желание продолжать свое образование квалифицируется, как преступление. В тюрмах я встречал массу студентов различных высших школ СССР. На моих глазах группа студентов около 100 человек была сослана в Нарымский край. Эти студенты были исключены из различных московских школ. Провинция, конечно, тоже отказалась их принять. Тогда они собрались в Третьяковскую картинную галлерею и послали делегатов к комиссару иностранных дел и просвещения, знаменитому Луначарскому, просить о разрешении поехать в Чехословакию и там продолжать свое образование. Этот поступок был рассмотрен, как контр-революционный, и около 100 этих студентов-революционеров были сосланы.
ГПУ очень близко соприкасается с советской школой. Советское правительство приказывает выпытывать у детей, что делают и думают их родители; я могу рассказать десятки фактов в доказательство этих утверждений, как в Москве и Ростове, так и в различных деревнях. Дети должны доносить в ГПУ, верят ли их родители в Бога, что они делают, кто их посещает и т.д. и на все эти вопросы должны отвечать дети от 7 до 10 лет. Это есть общая мера, применяемая во всех шкалах сов. России. ГПУ через детские уста получает сведения о политической благонадежности родителей.
Становится трудным понять и определить, где кончается в сов. России школа и где начинается полицейская организация ГПУ.
Конечно, безнравственному и развращающему влиянию советских школ на детей в значительной степени противодействует целительное влияние семьи и родителей; это влияние спасает детей от окончательного падения в пропасть разврата. Но есть в советской России нечто, чего не найдешь ни в одной цивилизованной стране: это дети — сироты или же покинутые своими родителями и предоставленные самим себе. Как это случилось, что страна оказалась наводненной бесчисленными толпами детей, покинутых всеми?
Виновником этого бедствия оказался большевизм, который, преследуя идею социализации страны, привел ко всеобщему голоду. Сельское население целыми деревнями вымирало от голода на месте, а те, которые еще имели силы, бежали искать куска хлеба в места, где была надежда его найти. Тысячи человеческих существ, запрудив пути и дороги, бросились на Юг к обетованным землям. Пораженные голодом родители, как более слабые, вымирали первыми. Некоторые из их детей чудом выжили, но остались без крова, без средств к существованию и без защиты. К таким присоединились дети, развращенные коммунистическим воспитанием, бежавшие от домашнего очага и покинувшие свои семьи, чтобы сделаться бродягами. Большевики, которые восстанавливают детей против родителей и сознательно разрушают семейные основы своим методом вызвали к жизни целые армии беспризорных, составляющих в теперешней советской России целые кадры уличных бродяг. Эти дети живут везде понемногу: в степи, под открытым небом, в стенах сожженых или развалившихся домов, главным образом возле базаров. Я сам видел однажды в Ростове, как на углу Московской улицы, возле сенного базара, в небольшом сорном ящике сбилось от восьми до десяти таких беспризорных.
Утром, проходя по улице, вы заметите мальчишек, черных как сажа, выходящих из асфальтовых печей, где они провели ночь. Некоторые находят приют на вокзалах, в пустых вагонах, во всевозможных вертепах на берегу рек и т.д. Они оборваны, в лохмотьях, а чаще всего полуголые. Они живут попрошайничеством, промышляют воровством, проституцией. Есть в Ростове-на-Дону маленький сквер. Вечером десятки девочек от 10 лет окружают там прохожих, предлагая им свои жалкие маленькие тела за кусок хлеба, или несколько копеек. Все это происходит возле будки, где находится охранитель советской безопасности, с которым девочки делят свои заработанные гроши. Пол полицейской будки служит брачной постелью, и стоит это 20 коп. Перед будкой выстраивается целый ряд пар, ожидая своей очереди. Впрочем, это происходит повсюду, а правительство делает вид, что не знает этих подробностей, которые свидетельствуют о победе коммунизма в стране советской социалистической республики.
В Ростове, в саду прежнего коммерческого клуба, на Садовой улице, коммунисты организовали клуб кооперативного о-ва, и в то время, когда вы обедаете, сотни детских глаз следят за вами и ждут, когда вы кончите, чтобы завладеть остатками на ваших тарелках, или, воспользовавшись вашей рассеянностью, стащить что-либо с вашего стола; и пока вы насыщаетесь, вы видите банду мальчишек, спорящих за сворованные продукты. И со всех сторон вы все время слышите шопот: “миленький дядя, мне, мне дайте что-нибудь…” Но посетители отупели, они уже не замечают этих голодных детей, они привыкли к их страданиям и больше не трогаются ими: человеческие сердца очерствели. Каждый думает только о себе.
В 1925 г., во время большой автомобильной гонки в СССР, упомянутый мною ресторан был предоставлен исполнительным комитетом иностранным автомобилистам. В продолжение двух дней вход в ресторан был населению запрещен, и это для того, чтобы оно как-нибудь не столкнулось с иностранцами. Что касается беспризорных, то полиция всячески мешала им проникнуть в сад, чтобы иностранцы не заметили этих несчастных жертв советского режима. Участников гонки было несколько сот человек. Возможно, что кому-нибудь из них попадется на глаза эта книга. Он вспомнит чрезвычайные меры полицейской охраны во время обеда в кооперативе: пусть же он узнает, что его охраняли от соприкосновения с голодными детьми.
Чтобы совершить воровство, эти дикие дети соединяются в целые банды, которые бегают по городу, выискивая жертвы. Они вырывают среди бела дня сумочки у дам и мародерствуют, особенно на базарах. Я видел собственными глазами, как на базаре банда в 30-40 этих мальчишек в час дня набросилась на маленькую лавочку с хлебом. Бандой руководили двое малых, около 17 лет. В одно мгновение ока хозяин был на земле, хлеб растащен и банда рассеялась. Городовой, стоявший возле, не двинулся с места: он громко хохотал. Его забавлял этот грабеж среди бела дня в центре города. Пять минут спустя, я присутствовал там же, поблизости, при другом аналогичном случае. Старая торговка рыбой была атакована бандой мальчишек, и ее две корзинки рыбы исчезли, как по волшебству. Блюститель порядка стоял рядом бесстрастный, как будто это происшествие его не касалось.
Я не мог уяснить себе эту пассивность представителей порядка; случай открыл мне глаза. Однажды, на базаре, в толпе, я очутился рядом с тремя крестьянами, которые тихо говорили между собою. Отрывки их разговора меня поразили: они поносили, как только могли, советскую власть и революцию. В это время я заметил одного беспризорного лет 9-ти, который вертелся возле них. Он подслушивал их разговор, стараясь не быть замеченным. Я думал, что он хотел стащить что-нибудь, и собирался уже предупредить крестьян, когда мальчик подошел вдруг к одному господину и, потянув его за рукав, сказал: “товарищ, идем со мной”. Мальчик подвел этого человека, оказавшегося охранником, и, указывая ему на трех крестьян, сказал ему: “вот эти ругают советскую власть”. Агент арестовал крестьян и повел их вместе с доносчиком в ГПУ, которое пользуется беспризорными бродягами, как шпионами. Они даже получают привилегию воровать, при условии лишь, чтобы это касалось только частных торговцев.
В Ростове, проходя мимо развалин дома Чирикова, номер 44, по Таганрогской ул., где проводят ночь беспризорные дети, я слышал собственными ушами ссору мальчика с девочкой: “шлюха, — кричал мальчик, — ты мне даешь полтора рубля, когда агент ГПУ дал тебе сегодня 5 руб. за женщину, на которую ты донесла на вокзале… дай мне половину, или я тебя убью…”
Безнравственность детей начинается с самого раннего возраста. В 12 или 14 лет они уходят парами, или группами: девочка и несколько мальчиков. Последние достают средства к существованию, девочка занимается хозяйством и служит супругой для всей банды. Если мальчики ничего не украли за день, девочка, как последний рессурс, посылается на ночь… Эти условия жизни приводят к тому, что все эти дети почти без исключения заражены венерическими болезнями, что было засвидетельствовано врачами различных иностранных миссий, которыми я руководил.
В советской России можно найти убежища для детей, число которых очень ограничено по сравнению с массами этих бродяг. Коммунист Богуславский нам сообщает, что в 1926 г. число детей, принятых в эти убежища, было 206.000. Советы любят демонстрировать свою заботливость о детях, поэтому они заставляют каждую иностранную делегацию посетить одно образцовое убежище для детей, устроенное по последнему слову современной техники и науки. Все эти иностранцы остаются в восхищении от забот советского правительства о будущем поколении. Я, наоборот, имел случай исследовать обыкновенные, советские, приюты с уважаемым итальянским профессором Арманди, делегатом la “Groce Rossa Italiana”. Многие из этих убежищ, так же, как центральный распределительный дом, находились в 50 км. от Ростова, в г. Новочеркасске. Как только мы приехали в Новочеркасск, мы отправились в местный исполком предупредить о нашем визите и получить письменное разрешение на это посещение, без коего вход в эти приюты воспрещен. Товарищ Пивоваров, председатель исполкома, старый матрос, толстый, грубый малый, был до революции грузчиком и выдвинулся, как вожак Царицынского бунта в 1917 г. Согласно нашему договору, заключенному в Москве между профессором Нансеном и товарищами комиссарами Чичериным и Литвиновым, мы попросили у него средства для передвижения. Пивоваров, желая помешать нашему визиту, отказал нам в этом наотрез. Тогда я объявил, что буду телеграфировать московскому правительству, и что он понесет ответственность за могущие возникнуть отсюда недоразумения. Пивоваров испугался, и мы получили разрешение и автомобиль. Подъехав к первому убежищу, мы спросили у сторожа, где можно найти заведующего. Он ответил нам туманно, что может быть он в городе, а может быть в приюте… Мы вошли и очутились в очень грязной, полутемной комнате, заставленной столами и как будто похожей на столовую. Мы почувствовали, что задыхаемся от отвратительных запахов, вызывающих рвоту, и должны были вынуть из кармана плавки, чтобы зажать рот и нос. Профессор Арманди почувствовал себя дурно и попросил меня пройти в другие комнаты, но в этот момент я заметил, что под одним из столов что-то двигается. Мы наклонились и в полумраке комнаты увидели с ужасом с одной стороны девочку и мальчика, с другой — двух мальчиков от 10 до 11 лет, предающихся занятию, которое нельзя описать приличными словами. Профессор Арманди громко закричал, но вдруг заметил, что под другими столами происходит то же самое. Десятки детей в возрасте от 10 до 14 лет превратили эту столовую в дом терпимости. Мы поспешно покинули зал, пробежали несколько комнат, разыскивая если не заведующего, то хотя бы кого-нибудь из служащих. Никого. Повсюду пусто. Дети остались, предоставленные самим себе: одни играли, другие дрались, а третьи занимались тем, что нас так поразило в первой комнате. Наконец, в кухне мы напали на самого заведующего. Он выслушал нас холодно и спокойно и, не принимая никаких мер, равнодушно сказал нам: “Что я могу с ними сделать? Если я их прогоню отсюда, они пойдут в другое место…” Мы покинули это советское убежище подавленные. Мы посетили с профессором Арманди и другое, и третье, всего пять таких учреждений, и там мы увидели нечто еще худшее, чем в первых. Я отказываюсь описать то, что мы видели. Прибавлю только, что в день нашего посещения в Новочеркасской клинике было из этих приютов более 10 беременных девочек. Среди них были девочки 13 лет.
Чтобы дать представление о том, что получается из этих детей, я расскажу факт, свидетелем которого был я сам, факт, происшедший в детской колонии станицы Персияновской, возле г. Новочеркасска. Прошло несколько месяцев со времени нашего посещения новочеркасских приютов. Приехав в колонию Персияновскую, я попал на вооруженный бунт приютских детей. За несколько дней до этого в Персияновскую колонию прислали 23 человека детей, отобранных из Новочеркасских приютов. Эта группа оказалась организованной бандой, вооруженной револьверами и ножами. Дети арестовали администрацию колонии, нагрузили все движимое имущество на телеги, вывезли на базар и продали. Когда я прибыл в колонию, власть уже 5 дней была в руках взбунтовавшихся детей. Новочеркасский исполком послал делегацию, чтобы мирно уладить конфликт, но бунтари об этом не хотели и слушать. Только на шестой день прибыли солдаты, окружили дом и обезоружили молодых преступников. Вот они где настоящие перлы коммунистической системы воспитания.
Заметим, что только малый процент детей — бродяг находится на попечении у власти. Если последняя заявляет, что она бедна, имеет ограниченный бюджет, не позволяющий ей никаких щедрот по отношению к детям, то это только наглое лицемерие и ложь. Советы мало думают о миллионах бродячих детей, потому что их больше заботит мировая революция, III интернационал и поддержание собственной власти во что бы то ни было. Наоборот, советы отнимают все, что могут, у этих несчастных детей, и вот одно из многочисленных доказательств этого. Когда в Ростове-на-Дону ликвидировалась организация, она передала несколько вагонов сахара, муки, какао, сгущенного молока и медикаментов товарищу коммунистке Марии Жила, заведующей детскими домами и вице-президентше общества “Друг детей” на С.Кавказе. Миссия передала тому же лицу свой автомобиль и часть мебели своей конторы, рассчитывая, что все это пойдет в пользу детей. Через две недели после отъезда миссии я увидел все названные продукты в “витринах местного кооператива красной армии, под названием “Красная звезда”, находящегося на углу ул. Фридриха Энгельса. Эти припасы были отняты у детей и переданы в военный красный кооператив.
Автомобиль был конфискован административной секцией Донского исполкома, а мебель товарищ Жила перенесла к себе. Очевидно, жизнь детей интересует советы много меньше, чем поддержка их исполкомов, их агентов и красной армии. В данном случае советское правительство просто обворовало детей.
Картина советского призрения слабых не была бы полной, если бы мы не показали, что сделала С.Р. для стариков. Те, кто еще не заражен гноем коммунизма, думают, что святой долг каждого народа подумать о стариках и окружить заботливостью тех, которые послужили отечеству. Коммунисты имеют на старость свою особую точку зрения: они считают, что старость не производительна, потому бесполезна. Придя к власти, они начали с упорной жестокостью проводить систему уничтожения стариков, которых они нашли в различных убежищах, существовавших со времен старого режима. Вот факт, имевший место на моих глазах: несколько времени спустя после занятия Ростова, красные войска расстреляли несколько сот ветеранов в самом помещении их убежища. В части этих домов, освобожденных таким образом, они поместили студентов-рабочих и учеников советской коммунистической школы. Новые жильцы попросили у советской власти освободить их от стариков, которые остались еще в других соседних помещениях. Этих несчастных просто эвакуировали и отослали в Новочерскасск в другое помещение, пустое и уже разваливающееся. Некоторые из них были подобраны добрыми людьми, другие умерли от голода и лишений. Таким образом, в советской России не существует никакой защиты для стариков. Правда, коммунисты создали несколько домов старости, но только для того, чтобы в качестве “образцов” показывать их иностранцам. Эти дома называются “рабочими домами ветеранов революции”. Что я могу еще прибавить больше? В ХХ веке в Европе существует правительство, которое уничтожает стариков в своей стране. На Западе, к сожалению, это часто забывают, и находятся еще люди, которые протягивают руку подобному правительству.
С тех пор, как коммунисты стали у власти, успело вырасти новое поколение, подвергшись губительному влиянию коммунистической идеологии. Дети прошли через то, что называют советскими школами и убежищами. Эти дети не усвоили ни одного морального принципа. С самого раннего возраста они привыкли к безнаказанному произволу, они видели вокруг себя страшные примеры распущенности и разврата. Большевицкая пропаганда против домашнего очага, против религии, против всякой морали в атмосфере беззакония и произвола дала свои печальные плоды. В советской России многим рискует тот, кто отважится пройти ночью по улице. С наступлением вечера улица попадает во власть многочисленных банд хулиганов, которые, угрожая жизни прохожих, обирают их, оскорбляют, а часто и убивают, и происходит это везде, даже в центре в Москве. Можно судить по самим декретам о том, что происходит в действительности.
Вот, например, текст одного из этих декретов: “Запрещается в публичных местах толкать граждан, приставать к прохожим, бросать разные предметы на головы публики с галерки в театрах… запрещается подставлять ногу, тащить прохожих за одежду, забрызгивать их водой и грязью, изображать привидения, завернувшись в простыни… Запрещается плевать на одежды прохожих, мазать их дегтем, запрещается ломать деревья, ограды, вырывать цветы, протягивать веревки поперек улиц, строить баррикады, рыть ямы… Запрещается пугать лошадей и других животных, обращать улицы в отхожий места и т.д.и т.д.” Общественная мораль должна была пасть слишком низко, чтобы надо было перечислять и запрещать все вышеприведенное. При других обстоятельствах все это могло бы вызвать только смех.
Как доказательство опасности хождения по улицам, я могу рассказать факт, случившйся с лицами, которых я хорошо знал в Ростове. Однажды между 12 и 1 ночи муж и жена проходили через сквер (на углу ул. Ткачевской и Фридриха Энгельса) возвращаясь из театра. Едва они отошли несколько шагов от угла ул. Фридриха Энгельса, как на них бросилось 10 молодых хулиганов, которые, угрожая револьверами и ножами, приказали им раздеться. Когда эти несчастные были таким образом раздеты, хулиганы, осыпая мужа ударами и оскорблениями, повели его к соседнему киоску и принуждали его отклеивать языком афиши, в то время, как другие молодцы изнасиловали, по очереди, его жену, которая впала в бессознательное состояние. Пригрозив мужу, бандиты убежали. Несчастная женщина потеряла рассудок. Советские власти сделали вид, что разыскивают бандитов, которых не нашли, конечно, и по сей день, и которые не были наказаны. И подобные факты повторялись каждую ночь, а хулиганы, как всегда, оставались неуловимыми. Я нашел, наконец, объяснение этой неуловимости и ненаказуемости.
В советской России все граждане выслеживаются агентами ГПУ; я тоже не составлял исключения, ко мне приставили почетную стражу, следовавшую за мной по пятам. Между сотрудниками ГПУ, за мной следившими, отличался особенным усердием некий Шапиро. Однако, все эти господа не могли помешать мне видеть то, что я описываю. Иногда я даже бывал им благодарен за их болтовню и простоту.
Вот пример: упомянутый уже Шапиро, работавший в одесском ГПУ, был переведен в Ростов, под начальство своего личного друга Минаева, получившего пост начальника областного ГПУ на С.Кавказе. Благодаря этому Шапиро, я узнал следующий факт: в августе 1925 г. вскоре после своего приезда, новый начальник ГПУ Минаев возвращался к себе со своим помощником. Было около часа ночи. Он направлялся к Среднему проспекту на свою квартиру. На углу Ворошиловской улицы, возле дома профсоюза, их атаковали два хулигана, которые угрожая своими револьверами, крикнули: “стойте, ни шагу дальше!” Оба чекиста сделали вид, что подчиняются приказу, после чего хулиганы велели одному снять кожаную куртку, а другому — сапоги. Притворяясь, что раздеваются, чекисты быстро вытащили свои наганы и, угрожая со своей стороны бандитам, закричали: “руки вверх!” Эта сцена кончилась бы, наверное, взаимной перестрелкой, если бы в это время не появился проходивший отряд чекистов, который арестовал грабителей и доставил их в ГПУ. Тут-то и разыгрался настоящий театр: личности двух задержанных были удостоверены, и один оказался главным агентом криминальной полиции, другой помошником товарища Удойникова, начальника этой службы. Виновность их была очевидна, однако инцидент был исчерпан чудовищным дебошем, который начался винными излияниями в ГПУ и закончился в таможне, куда направилась вся компания, в поисках заграничного ликера, конфискованного, как контрабандный.
Заслуживают особого внимания дебоши среди советской молодежи: юноши не ограничиваются устройством афинских ночей с девушками, они еще требуют от последних особых ласк, И никакая девушка-коммунистка не может отказать коммунисту, иначе она будет обвинена в узкой буржуазности. Безнравственность коммунисток безгранична; вот какой факт произошел в станице Старо-Щербинковская Кубанской области. Коммунистки, встретив девушку-некоммунистку, затащили ее в одну школу, положили и, держа ей руки и ноги, впустили к ней по очереди 12 мальчишек, которые таким образом, могли легко совершить над ней насилие.
Подобные факты очень распространены в Советской России.
Вот другие примеры: в Ростове в одной гимназии второй ступени 23 ученика затащили однажды вечером двух молодых девушек, учениц той же школы, в помещение центрального отопления и там их изнасиловали. Одна из них умерла от ряда совершенных над ней насилий, другая осталась калекой на всю жизнь. В том же городе одна учительница школы, уже пожилая, была схвачена во время урока своими учениками 14 и 15 лет и изнасилована. Вот как растет поколение, воспитанное по коммунистической системе. Это обещает в будущем полное падение цивилизации и примитивную дикость нравов.
Советская власть обыкновенно скрывает эти факты, но если скандал становится слишком громким, тогда она симулирует возмущение и лицемерно грозит строгими карами виновным. Я вполне убедился в советском комедианстве, отбывая свой стаж в советских тюрьмах. Я там встретил толпу преступных подростков, которых посадили для вида, но которые были выпущены из тюрем через несколько недель. Вот пример в доказательство этого: в центре Москвы, в 10 часов утра, возле Товарного вокзала Московско-Курской железной дороги банда хулиганов в 16 человек, из которых несколько человек принадлежали к организованной молодежи “комсомолец”, изнасиловали одну кухарку 59 лет. Они бросили ее на землю, закутали ей голову старыми мешками и надругались над ней. Пять молодых преступников были захвачены на месте. Я их видел в Бутырской тюрьме, где и сам находился. Эти негодяи хвастались своим поступком и рассказывали с самыми грязными подробностями о своем преступлении, которое они называли “развлечением”, и они были выпущены через 2 недели. Нужно ли после этого сомневаться, что советы поощряют и покровительствуют разрушению и падению нравов в стране? Не есть ли это для них, может быть, единственное средство удержать власть?
В Бутырской же тюрьме я встретил товарища Щучева, главного агента ГПУ Челябинской жел. дороги: он мне рассказывал цинично историю своего преступления. Он не понимал, как его могли наказать из-за такой пустяковины. В качестве служащего ГПУ он проверял на Челябинском вокзале паспорта пассажиров в циркулирующих поездах. Однажды он заметил в одном из вагонов двух женщин (мать и дочь), которые ему “бросились в глаза”. Тогда он объявил, что их паспорта кажутся ему подозрительными, велел их арестовать, высадить из вагона и через час приказал привести их ему каждую отдельно в его контору. Охраняемый штыками красноармейцев, он изнасиловал одну и другую и, натешившись ими, он их отпустил. Но я оставляю слово за Щучевым:
“Сколько раз я подбирал в вагоне красивых женщин и чинил им допрос, всегда все шло хорошо. Если бы я знал, кто это такие. Оказалось, что они были жена и дочь известного и влиятельного коммуниста в Москве. И вот вдруг через месяц, мой прямой начальник призывает меня и говорит: “Щучев, наделал же ты хороших делов, придется посадить тебя в тюрьму, и я ничего не могу для тебя сделать. Центр этого требует…”, и он мне рассказал, что я напал на жену и дочь шефа. “Не волнуйся, сказал мне мой начальник, это пустяк, мы не допустим, чтобы ты гнил в тюрьме”. Скоро я убедился, что начальник Щучева был прав.
Приговоренный к высылке за пределы советской республики, я ожидал этой высылки в одной из тюрем, называемой “рабочей”. Вдруг появляется Щучев, осужденный на 10 лет заключения в концентрационном лагере. Он смеялся и говорил, что не засидится больше одного года. Действительно, месяц спустя после осуждения он ходатайствовал об уменьшении ему наказания и ему уменьшили таковое на 3 года, так как начальство его удостоверило, что он был всегда рьяным коммунистом и хорошим партийным работником. Через несколько времени он опять просил о сокращении ему срока наказания, и еще до моего отъезда я узнал, что ему была оказана окончательная милость, и он был освобожден из заключения. Надо еще знать, что сотрудники ГПУ никогда не отдаются под суд: они могут быть только административно наказаны самим ГПУ, и в том же порядке их освобождают от наказания. Нынче Щучев, отец троих детей (бедные малютки!), восстановлен по службе, продолжает проверять паспорта и добывать для себя и для своих начальников хорошеньких путешественниц…
И много их, этих Щучевых, в советской России. Это настоящие кошмары, и эти кошмары происходят в свободной советской республике, где вместо брака — разврат, и где каждый гражданин имеет право разводиться и снова вступать в брак столько раз, сколько он хочет даже в течение одного дня. Развод не требует почти никаких формальностей, достаточно зарегистрироваться в местном совете, и вы женаты. Достаточно желания развестись, хотя бы и не спрашивая согласия другой стороны, и развод готов. Если адрес другого заинтересованного лица известен, его предупреждают о совершившемся факте. Я знал лиц, которые разводились 50, 60 раз. Я знал таких, которые женились на своих ближайших родственницах, или просто сожительствовали с ними. Гомосексуализм не наказуем в советской России, за исключением Кавказа. Известно также, что аборт узаконен в С.Р.
За разрешением на аборт выстраивается целая очередь у окна учреждения. Советский закон предусматривает и здесь привилегию для работников и жен рабочих, которые проходят первыми, потом идут жены служащих советских учреждений и, наконец, простые смертные.
В 1925 г. при покровительстве советского правительства образовалось общество под названием “Долой стыд”. Члены этого общества обязались отказаться от одежды и ходить голыми. Для пропаганды некоторые члены этого эксцентричного о-ва были посланы в поездки: в Харьков, Ростов, Минеральные Воды и т.д. Я видел их в костюме Адама и Евы в Ростове.
Проходя однажды по ул. Фридриха Энгельса, я увидел следующую картину: мужчина и женщина стояли возле остановки трамвая совершенно голые, легкая повязка из широкой красной ленты прикрывала те места, на которые скульптор налагает обыкновенно виноградный листик. На ленте была надпись: “Долой стыд! Долой буржуазный предрассудок!” У женщины кроме этого в руке была сумочка. В то время, как я, остолбенев, смотрел на них, собралась толпа, и милиция должна была защищать этих бесстыжих от враждебной толпы, большей частью состоящей из торговок и дам, возвращавшихся с базара. Град томатов, яиц и камней полетел в двух голых. В этот момент трамвай остановился, и они торжественно вошли в него. Но возмущенные пассажиры быстро вышли из трамвая, который, не имея пассажиров, не пошел дальше, и эти двое голых пустились в путь пешком под град насмешек и камней толпы. Через час, проходя мимо центральной почты, я увидел мрачную толпу, которая требовала выдачи им голых, спрятанных в помещении. Чтобы избегнуть над ними суда Линча, ком. ячейка почты снабдила их одеждой и выпустила их тайком через маленькую боковую дверь. И в других городах они наделали столько же шума и скандала. Советская власть, заметив, что эта пропаганда не только не имела успеха, но еще подставляла агентов ее под смертельную опасность, ликвидировала это общество месяц спустя.
Однако из первых следствий описанной моральной анархии в России — это понижение всеобщего уровня физического здоровья населения. Венерические болезни распространяются и захватывают страну. Люди, больные морально и физически, не считают больше за преступление заразить других болезнями, которыми страдают они сами. Сов. профессор Кольцов публикует следующие советские статистические данные: до революции из 100 венерических больных 7 переносили заразу в свои семьи. В 1918 г., когда большевики пробыли у власти 1 год, цифра 7 доходит до 33. В 1924 г. после 7 лет сов. режима, цифра эта дошла до 63. Всякие комментарии перед этими цифрами становятся излишними. В бесплатных студенческих столовых, которые поддерживались различными миссиями, и во главе которых я сам стоял, процент студентов, зараженных венерическими болезнями, колебался между цифрами 70 и 75. На Северном Кавказе мы зарегистрировали целые области, где было заражено от 80 до 95%, как например: Кабардино-Балкарская, Карачаево-черкесская, Чеченская и т.д. Советская статистика, заинтересованная скорей в преуменьшении неприятной цифры, признает среднюю цифру заражения венерическими болезнями в 30%.
С приходом большевиков, малярия, свирепствовавшая только на Юге, распространилась до самой северной окраины. Она свирепствует теперь в Архангельске, Кеми и на Соловецких островах.
Общее санитарное положение советской России плачевно. Власть мало заботится о санитарном состоянии края. Когда две миссии, видя, что медицинская советская помощь была совершенно недостаточна для борьбы с эпидемиями, предложили правительству открыть бесплатные лечебницы, то советы поставили первым условием, чтобы им передали большую часть медикаментов, полученных из-за границы. Сверх того, они отказались предоставить миссии помещения под больницы. Когда первая миссия (Vereliv) нашла одно помещение сама, то советы все-таки принудили ее ликвидировать лечебницу.
Русские врачи вынуждены работать в очень тяжелых условиях: заведующий Владикавказским железнодорожным госпиталем Р. был избит одним рабочим за то, что не принял его жену в госпиталь профессионального союза, к которому этот рабочий не принадлежал. И в ответ на это, рабочий бросился на доктора и так его избил, что тот слег на 8 дней в постель в своем же лазарете. О наказании рабочего не поднималось даже и вопроса. 10 дней спустя этот же доктор был избит больными своего госпиталя за то, что не разделял мнения сестры милосердия коммунистки, требовавшей выпуска из госпиталя одного больного, которого она считала здоровым, и которого доктор считал еще не вполне выздоровевшим. В этом самом госпитале один молодой доктор был избит одним из больных, потому что ему не понравилась сделанная ему этим доктором перевязка. Это все картинки нравов, царящих в сов. госпиталях. Ясно, что при таких условиях всякая медицинская помощь населению становится неосуществимой.
Конечно, во всякой стране можно всегда найти в народных толщах элементы, склонные к хулиганству, бандитизму и произволу. Но для борьбы с этим злом везде существуют законы, и за нарушение их налагаются суровые наказания. В сов. России, наоборот, коммунистическая система такие хулиганства поощряет, и сами коммунисты видят в этом положении вещей проявление истинной свободы. Когда эти элементы беспорядка становятся не исключением, а правилом, — они обращаются часто против самих же советов. Хулиганы убивают охранников, представителей сов. власти, членов коммун, партии. Тогда коммунисты спохватываются, пытаются действовать, но слишком поздно: они пожинают бурю, посеяв ветер. Конечно, те, которые сделали все, чтобы уничтожить мораль, бессильны ее восстановить.
Дурные инстинкты человека управляются и смягчаются религией. Это есть истина, признаваемая даже ее самыми злыми преследователями.
Коммунизм есть сила разрушительная, в то время, как религия действует совсем в обратном смысле. Коммунисты понимают, что они господствуют только там, где им удается развратить морально население, создать анархию, разбудить низменные инстинкты человека, уничтожить порядок и равновесие.
Следовательно, религия есть препятствие на пути коммунизма, она его враг; они говорят: она, или мы. Оба не могут существовать в одном государстве и, понимая это, большевики создали единый антирелигиозный фронт.
Они решили поставить религию вне закона, они запретили изучение Закона Божьего даже вне школы, и, не взирая на волю родителей, и из политических лишь соображений допускаются редкие исключения для магометан.
СССР сделалась страной, где издание Евангелия строго преследуется, и даже чтение его вменяется в преступление. В школах введено изучение атеизма.
В первые годы сов. власти мир был свидетелем расстрела священников, которых заставляли переносить жесточайшие унижения. Церкви были закрыты или загрязнены, там устанавливали кино, клубы, казармы, конюшни. Все церкви были ограблены коммунистами, и чтобы придать вид законности этому факту, было объявлено, что богатства эти секвестрированы в пользу народа.
Но коммунисты не знали той вечной истины, что преследуемая религия всегда крепнет и утверждается. Народные массы заволновались: их грозные волны чуть не унесли большевиков, которые отступили перед этим возмущением масс.
Тогда смягчилось систематическое закрытие церквей и притеснения духовенства. Коммунисты, не сумев взять церковь с фронта, решили взять ее окружением. Они организовали раскол в русской православной церкви.
Таково, приблизительно, историческое резюме борьбы сов. власти против церкви до того момента, когда большевики решили изменить самый метод этой борьбы.
Цель этой главы дать перечень всех преследований, которые терпит церковь и религия в настоящее время в сов. России. Чтобы изложить, в каком положении сейчас борьба коммунизма против церкви, надо эту борьбу разделить на три фазы:
1) Организация систематической пропаганды против религии и поощрение всякого рода наступлений на нее, в особенности со стороны коммунистической молодежи.
2) Узаконенные налоговые репрессии против церкви.
3) Открытое преследование через ГПУ, которое поддерживает всякую малейшую попытку, ведущую к разрушению и ослаблению церкви.
Я постараюсь иллюстрировать мой рассказ фактами, свидетелем которых я был в сов. России.
В Ростове-на-Дону я имел случай присутствовать на многих антирелигиозных процессиях, организованных комсомольцами.
Накануне больших церковных праздников, особенно перед Рождеством, Пасхой, Благовещением и т.д., коммунисты не останавливаются перед большими денежными затратами на организацию этих демостраций. Коммунистическая партия ни в чем не отказывает комсомольцам при этих обстоятельствах. Она даст им автомобили, ссужает их деньгами и даже солдатами для их защиты.
Вот описание одной их этих демонстраций, имевшей место 25 марта 1925 г., в день Благовещения.
Кортеж открывался несколькими телегами, разукрашенными плакатами, на которых было написано: “Религия есть опиум народов”. “Религия есть ложь и орудие в руках буржуазии, чтобы властвовать над рабочим классом и его порабощать”. “Долой всех богов, коммунизм рассеет религиозный туман”. “Кардиналы, раввины, пасторы, священники, попы, муллы — это все наши жесточайшие враги” и т.д. Некоторые надписи по адресу Богоматери были настолько циничны, что я не осмеливаюсь привести их в текст.
Живые картины самые скандальные, самые возмутительные были представлены группами молодых людей, наполнявших телеги. В первой повозке коммунист сидел на епископском троне и одной рукой благословлял толпу, а другой сладострастно ласкал коммунистку, которая изображала Богородицу. Рядом кардинал, благословляющий одной рукой простертого перед ним рабочего, а другой предающий капиталисту наручники, указывая на рабочего и получая в обмен большой мешок денег. Другой молодой коммунист переодетый священником, держал в одной руке крест, а в другой бутылку водки, которую пил полными стаканами. Некоторые молодые коммунисты были одеты монахами и, приняв циничные позы, распевали скабрезные песни.
Окруженные красноармейцами, эти телеги проехали по центральным улицам и к 12 часам, в момент окончания службы, приблизились к собору: прибыв туда, коммунисты разложили костер из икон и зажгли чучела, изображающие различных святых. Рядом на виселицах повесили другие фигуры, изображающие Христа, Иегову. Будду и Магомета. Молодые коммунисты обоего пола исполняли вокруг костров и виселиц циничные танцы, вопя в продолжение получаса…
Население со страхом и ужасом смотрело на этих богохульников.
Другой факт являет собой пример святотатственных манифестаций в церквах даже во время службы. Это было в 1925 г. на Пасху во время службы, на которой я присутствовал — в церкви “Всех Святых”, на Ростовском кладбище. Была густая толпа молящихся. Несколько сот молодых коммунистов обоего пола, сидя на могилах вокруг церкви, распевали под аккомпанемент гармоник, пили волку, занимались развратом и богохульствовали, как кто мог… Напоив одного из товарищей, они протолкнули его в церковь, чтобы сделать там скандал у самого алтаря. Пьяный, сопровождаемый несколькими из своих товарищей, протолкался через толпу за несколько минут до торжественного пения “Христос Воскресе”. Шатаясь, он прошел несколько ступеней амвона и направился к алтарю. Молящиеся, стоявшие у амвона, застигнутые врасплох, не могли ему помешать пройти, но служивший священник не растерялся: он быстро преградил путь комсомольцу и, став между ним и алтарем, пригрозил ему распятием. Молодой коммунист остановился, побледнел и отступил с ужасом. Попятившись, он пропустил первую ступеньку амвона и упал навзничь на руки народа. В одно мгновение он был поднят над толпой и, переходя с рук на руки, был выброшен наружу с головокружительной быстротой. Рассерженные этой неудачей комсомольцы перерезали провода освещения и в момент, когда раздалось “Христос Воскресе”, свет сразу потух. Но и на этот раз им не удалось восторжествовать: народ зажег тысячи свечей, и служба продолжалась еще более прекрасная и величественная. Мистическое чувство наполнило сердца молящихся, которые необъяснимым образом почувствовали приближение великой Божественной Тайны и молились с еще большим жаром. Священник, воспротивившийся богохульству комсомольца, был отмечен и преследуем ГПУ; он сейчас сослан на Соловецкие острова.
Большевики повели атаку не только на церковь, но и на мертвых. Вот первый попавшийся случай:
В одной часовне, выстроенной возле госпиталя св. Николая в Ростове, находился склеп, где были похоронены супруги Пустовойтовы. При жизни они были большими покровителями многих добрых дел и начинаний, поддерживали они также и вышеупомянутый госпиталь. После прихода сов. власти часовня была занята советом для служащих госпиталя. Секретарь месткома захотел поселиться поблизости от своего комитета. Ему пришла мысль выжить обоих покойников и переделать их склеп под свою квартиру. Для коммуниста нет ничего святого, и святотатственное вырытие мертвых, отдыхающих вечным сном, не остановило большевиков. Скоро проект был выполнен — гробы вырыты и выброшены наружу, рядом с часовней.
Случайно жители узнали о мерах, принятых большевиками. Проникнутые чувством глубокой благодарности к чете Пустовойтовых за их добрые дела, они попросили вернуть им тела, чтобы их снова похоронить по религиозному обряду. Коммунисты размышляли несколько дней и, наконец, согласились вернуть трупы, но объявили, что желают оставить себе оба гроба из цинка. Пришлось вскрыть гробы, вынуть тела и положить их в деревянные гробы. Но при вскрытии гробов обнаружилось, что Пустовойтова после 20 лет погребения осталась совершенно сохранившейся. Вспомнили о святой жизни, которую она вела; об ее вере, о ее добрых делах, и народ заговорил о чуде.
Покойники были преданы земле во второй раз, при участии духовенства и всего города. Несмотря на запрещение местного совета, была организована целая процессия с хоругвями, которая обратилась в грандиозную манифестацию. Так ответило население большевикам на этот их варварский акт богохульства. Коммунисты были бессильны бороться против веры народа.
Эти насилия над погребенными не редки, особенно практикуется это с самым невероятнейшим цинизмом, чтобы добыть ценные цинковые гробы. Цинка сейчас нельзя найти в сов. России, и поэтому невозможно делать новые гробы из этого металла. Большевики решили национализировать их у старого режима.
Как пример приложения этой системы, я расскажу следующий факт: несколько месяцев спустя после рассказанных мной инцидентов, неизвестные убили двух чекистов в Ростовском предместьи, на Темернике. Власть нашла, что гробы из простого перста были недостойны чина убитых и решили похоронить их в цинковых гробах. Чтобы эти гробы достать, большевики отправились на кладбище Новоноселенское и просто влезли в один склеп, по их мнению самый богатый и вынули тела из гробов, бросили их па землю, рядом с их могилами, а на их место в их гробы положили двух убитых чекистов. Администрация кладбища должна была заполнить землей склеп, чтобы схоронить тела, лишенные гробов.
Но церковь является не только мишенью для отдельных оскорблений и притеснений, она есть объект открытой борьбы против нее со стороны самого правительства.
Местные комитеты отказывают в регистрации и легализиции приходов и убивают тяжелыми налогами духовенство и церковь.
Советским декретом было объявлено, что церковь и церковные имущества переходят в собственность государства, которое свободно располагать ими по своему усмотрению.
Чтобы церковь имела свободу богослужения, группа лиц должна представить местному совету список своих имен и составить акт, по которому они ответственны за имущество церкви и прихода, так же, как и за уплату налогов.
Надо иметь огромное гражданское мужество, чтобы расписаться в личной ответственности за управление религиозной общиной и принадлежащим ей храмом в стране, где преледуют, арестовывают и расстреливают людей за их религиозные убеждения.
Тем не менее это никого не останавливает. Большевики надеялись, что страх оказаться на плохом счету удержит массы. Они думали, что большое число церквей не сможет найти требуемое число подписей и следовательно, лишенное права культа, перейдет в собственность советской власти. Но они ошиблись: население не оправдало этих надежд. Тогда советы предъявили новые требования, делающие существование приходов еще более трудным.
Я был свидетелем того, как отказали Таганрогскому приходу в утверждении и регистрации, несмотря на достаточное число прихожан и на выполнение всех требуемых большевиками условий.
То был недостаточный процент рабочих в числе прихожан, то требовали, чтобы каждый член прихода пришел лично представиться в местный исполком, отмахивая расстояния в 45 верст, чтобы только расписаться. В момент моего отъезда из Ростова эти разговоры тянулись больше года и все еще не привели ни к какому решению.
Коммунисты не только препятствуют организации религиозных общин, но еще стараются окружить уже существующие условиями, убивающими их жизненность. Предпочтительно они прибегают к налогам. Вот тому типичный пример: в 1925 г. собор Рождества Богородицы в Ростове был обложен налогом в 70.000 р. золотом (т.е. в 35.000 долларов). Церковь Всех Святых, из числа маленьких приходов, была обложена в 20.000 руб.
Все платящие налоги, даже частные коммерсанты, имели право вносить их по третям; церкви должны платить в один прием, и, если они оказываются несостоятельными, то ответственность несут все прихожане со всем их имуществом, которое они имеют. Во время этого насильственного налогового сбора церковь стоит запечатанная: но никогда еще до сих пор не было случая, чтобы большевики закрыли церковь за невзнос налогов. Когда в Ростове собору угрожало закрытие за невзнос налогов, подписной лист гулял секретно между всеми жителями города, которые подписывались настолько успешно, что необходимая сумма была собрана в течение нескольких дней.
Многие из этих подписчиков охотно обрекали себя на голод, но церковь была спасена.
Церкви должны платить за воду и электричество больше, чем платят частные жители.
Однако, не все церкви угнетены такими тяжелыми налогами и не все так преследуются. Действительно, есть в этом общем правиле исключение, которое, будучи единственным, наводит на мысль… — это живая реформированная церковь, которая отделилась от старой церкви патриарха Тихона, она пользуется особыми привилегиями. Вот пример: я знал в Ростове много членов духовенства; один из них, отец Алексей, принадлежащий к живой церкви, был обложен налогами в 160 руб., тогда как другой священник, которого я тоже знал, отец Владимир, оставшийся верным церкви патриарха, должен был заплатить 6.000 руб., то есть почти в 38 раз больше. Но главная привилегия, которой пользуется “живая церковь”, это, что ее не преследует ГПУ.
Во время моего заключения в советской тюрьме я там встретил много членов православного и католического духовенства; были между русскими православными священниками епископы, но я там не нашел ни одного священника, принадлежащего к новой “живой церкви”, покровительствуемой советами.
Я лично часто имел близкие отношения с представителями православного духовенства в сов. России. Одна вещь стала для меня совершенно ясной: это тесная и близкая связь, существующая между ГПУ и “живой церковью”. Я в этом убедился, благодаря целому ряду фактов, которые произошли на моих глазах.
Много моих друзей, священников Тихоновской церкви, то есть истинной русской православной церкви, были приведены в ГПУ, где им цинично предлагали перейти в живую церковь и осведомлять чека о своих прихожанах. ГПУ требовало от них интимных подробностей, выпытанных во время исповеди, и если они отказывали, то их арестовывали и ссылали.
Значительное число этих священников, неизвестных героев, было таким образом сослано на Соловецкие острова и в Сибирь или перенесло долгое заключение в сов. тюрьмах. Я знал десятки этих случаев в моих отношениях, но я знаю массу случаев, когда граждане после исповеди у священников “живой церкви” были немедленно арестованы и сосланы чекой.
Чтобы не увеличивать числа жертв большевицкого террора, я вынужден умолчать об именах, которые я мог бы раскрыть. Однако же я могу сделать одно исключение, так как Богу угодно было призвать к себе одного из этих священников-мученников и освободить его из рук его палачей.
Дело идет о священнике Иване Жегуленко, настоятеле церкви “Всех Святых” в Ростове, уважаемом и почитаемом всем приходом. Я знал его 20 лет, часто с ним сталкивался и навещал его, особенно в последние дни его жизни. В момент раскола и отделения “живой церкви” отец Иван энергично и открыто протестовал против этого раскола. Ростовское ГПУ арестовало его с несколькими другими священниками за проповеди против “живой церкви”. Каждую неделю его призывали в ГПУ и предлагали ему освободить его немедленно, с условием перейти в “живую церковь”. Приверженцы этой церкви приходили к нему в тюрьму, предлагая ему сан епископа и предупреждая его, что он рискует жизнью, если будет противиться. Отец Иван вынес много угроз и страданий в тюрьмах ГПУ, и там он открыл и понял окончательно существующую связь между советскими ставленниками “живой церкви” и ГПУ.
Вследствие моральных и физических страдании, перенесенных в тюрьмах, отец Иван заболел, врачи признали его безнадежным.
Тогда чекисты, уверенные, что он должен умереть и следовательно становится безопасен, освободили его. Прихожане перенесли его с предосторожностями в маленький домик церковного сторожа; здесь, благодаря Всемогущему, а также, без сомнения, и нежным заботам окружающих, совершилось чудо, и отец Жегуленко стал поправляться. Я провел много часов у ею изголовья, и он часто мне говорил, что со дня на день ждет нового ареста. Он говорил мне так же часто, что, несмотря на явные признаки выздоровлений, он предчувствует близкую смерть. И, действительно, едва он встал на ноги, его призвали в ГПУ, мученья его возобновились, и от него опять начали требовать, чтобы он перешел в лоно “живой церкви”. Он снова заболел и больше уже не встал. В день своей смерти он был снова вызван в ГПУ, но он не имел более сил туда идти и через несколько часов умер. Едва он почил на своем смертном одре, как пришли чекисты. Когда им сообщили о его смерти, они потребовали, чтобы им выдали его тело: “мы, имеем приказ привести его в ГПУ живым или мертвым”. Но уже прибежали верующие и воспротивились этому надругательству над телом их бывшего пастыря.
Таким образом, неопровержимо засвидетельствовано, что “живая церковь” и ГПУ работают рука об руку. И несмотря на эту могущественную поддержку, “живая церковь” не имеет никакой опоры и медленно умирает. Население отлично поняло, что эта церковь есть не что иное, как агенство сов. власти в России. Народ отворачивается от нее, и я много раз видел, что храмы “живой церкви” были пусты, в то время, как церкви патриарха Тихона были полны молящимися.
Прихожане организовали общество “Миска”, чтобы в намять отца Ивана Жигуленко кормить бедных, нищих и безработных. Около 500 несчастных получали там пищу и были спасены от голода. Но так как дело благотворительности исходило от христианской общины, то ГПУ его уничтожило. Верующим запретили помогать несчастным.
Стремясь поддержать всякий раскол в церкви, коммунисты неустанно продолжают свои преследования, стараясь закрывать церкви везде, где они могут. Но нельзя сказать, чтобы все эти попытки имели бы успех, и в доказательство вот еще один пример.
Под г. Ростовым, на Тимернике, находится церковь в близком соседстве с мастерскими Владикавказских железных дорог, мастерскими, которые, как я упомянул раньше, посетили и осмотрели члены английской делегации тредъюнионов. Незадолго до моего отъезда из этого города, коммунистическая ячейка этих мастерских сделала общее собрание и предложила снести церковь, а ее камни употребить на постройку клуба. Рабочие, из которых некоторые были прихожанами этой церкви, закричали и запротестовали. Никакие усилия оратора не заставили их изменить свою позицию в этом вопросе. Тогда оратор объявил, что власть обойдется и без рабочих, зараженных “религиозным ядом”, она будет действовать без их согласия в их же собственных интересах. По окончании митинга все пошли по домам. Нечестивый оратор-коммунист шел в толпе продолжавших спорить рабочих и, когда он проходил по полотну железной дороги, внезапно на него налетел промчавшийся поезд, и оратор был убит на месте.
Рабочие были поражены и приписали эту смерть каре Божьей. Они моментально сорганизовали второе собрание, где и порешили: всем отправиться в церковь. Там они помолились и поклялись церковь сохранить, заявив местным властям, что взять эту церковь они могут, только переступив через их трупы. Многие тысячи манифестантов примкнули к этой демострации, и большевики не посмели настаивать.
Сейчас, несомненно, в России наблюдается могучее пробуждение религиозного чувства. Я знал много случаев со сборами, сделанными в среде рабочих на постройку церквей, и в тюрьме я очутился с рабочими, наказанными за это преступление. Я могу указать на факты постройки новых церквей в промышленных районах, где раньше рабочие были коммунистами и неверующими: напр., завод “Коммунистический авангард” в г. Владимире с 7.000 рабочих, завод “Красный октябрь” в Пензе — 2.000 рабочих и т.д.
Я знаю сотни коммунистов, которые боятся уйти из партии, хотя они давно в ней разочаровались, и которые тайком ходят молиться в церковь, крестят детей и женятся по религиозному обряду.
Я знаю коммунистов, занимающих важные посты в России (некоторые даже служащие в ГПУ), которые вернулись в лоно церкви и сделались верующими.
Религиозное преследование большевиков поразительно напоминает преследования первых христиан времен Нерона и Юлиана: оно часто превосходит их по жестокости и дикости. Однако, большевики вынуждены сознаться в своем полном бессилии победить религиозное чувство народа; наоборот, они достигли только того, что очень сильно укрепили его: чем больше советы неистовствовали в своем религиозном терроре, тем больше укреплялась народная вера.
Религиозные преследования коммунистов вернули ко Христу людей, которые были совершенно равнодушны к вопросам религии, и даже самих атеистов. Я сам был свидетелем этого искупительного чуда. Никогда раньше Распятие не сияло с такой силой, как теперь в этой стране страдания. Красная звезда — сатанинская эмблема зла — закатывается…