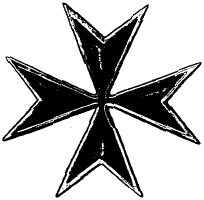JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Положение было таково: налоги вместо уменьшения возрастали. Крестьяне ответили переходом к примитивному хозяйству, чтобы защищить себя от эксплуатации советов, держащих внутренний рынок и всю промышленность в своих руках. Сборщики податей взимают подати в деревнях с неумолимой жестокостью. Подати должны быть уплачены во что бы то ни стало, без малейшего промедления, под угрозой жестоких кар. Вот несколько примеров: я знал от того крестьянина, Алексея П., жителя Кубанской области, станицы Старолешковской; он задолжал казне 20 руб. Незадолго до того у него пала лошадь, и так как это несчастье случилось во время горячих весенних работ, то он должен был затратить все свои деньги на покупку другой лошади. Совет призвал его и объявил ему, что он должен немедленно уплатить свои налоги. Напрасно он просил хоть краткой отсрочки: — ему объявили, что последний срок должен быть завтра после обеда. Алексей П. не мог найти необходимой суммы, и вечером, когда он вернулся с работы, солдат из милиции его ждал с мандатом о секвестрации его имущества. У него отняли его лошадь и продали с аукциона для уплаты налога, и несчастный крестьянин остался без лошади как раз в горячую пору крестьянской работы.
Другой аналогичный случай произошел в соседнем селе, станицы Каниболотской. Казак К. задолжал в казну 218 руб. Он протестовал против этой цифры, показывая, что его площадь обсеменения была на несколько гектаров меньше, чем та, которую определила власть для установления налога. Но все его протесты оказались напрасны: инспектор ссылался на текст советского закона, который говорит, что плательщик обязан сначала уплатить требуемую с него сумму (как бы она ни казалась невероятна), потом он мог доказывать незаконность налога. К. фактически уплатил только 130 руб., которые отвечали фактически площади его обсеменения. За бесценок было продано все его движимое имущество, и ему остался только пустой дом. Три месяца спустя областное финансовое отделение гор. Ейска признало его претензию законной, постановив, что 88 руб. должны быть ему возвращены. Ему их уплатили, но его имущество, стоившее по меньшей мере триста рублей, было в свое время продано с аукциона за эти 88 руб., и, конечно, никто ему не возместит его потерь от разорения.
Часто взимание налогов принимает более трагический характер. Станицу Рождественскую (в Кубанской области) постиг плохой урожай, и жители не могли внести сполна государственных налогов. Общее собрание станицы просило об уменьшении налогов. Власть ответила, что если налоги не будут уплачены сполна и в назначенный срок, их взыщут силой. Времена были тяжелые, недостаток в хлебе и в деньгах, не знали как прожить до следующего урожая, и налоги не были внесены вовремя. Спустя неделю коммунисты начали свои репрессии. Они объявили станицу в осадном положении и разместили там отряд солдат от 15 до 20 человек. Этот отряд начал с того, что взял заложников между жителями и объявил, что если налоги не будут внесены немедленно, то каждый пятый из заложников будет расстрелян. Со стороны жителей были сделаны все усилия собрать деньги, но, конечно, всей необходимой суммы не было собрано, и заложники были расстреляны. Вся станица поднялась, как один человек, — солдаты отряда, не успевшие бежать, были перебиты. Двоим, троим из них удалось однако бежать на ст. Тихорецкую (за 12 километров) и вызвать панику в местном совете. Немедленно снарядили соседние гарнизоны, и два поезда красных солдат татарского происхождения были посланы на места. Отряд специального назначения вышел поспешно из Ростова-на-Дону им на помощь. Восстание было потоплено в реках крови, масса жителей была расстреляна на месте. ГПУ арестовало десятки людей, которые были сосланы на Соловецкие острова или в Сибирь. Имущество жертв было продано для уплаты налогов.
С такими же осложнениями взимание налогов произошло в области Сальской и Хоперской на Дону, в Ставропольском районе и в Старобельском округе Харьковского района, на Украине. В 1926 г. этот факт повторился на С.З. в г. Острове, и все это факты совершенно достоверные, не говоря уже о целом ряде других случаев, которые до меня доходили через свидетелей-очевидцев отовсюду понемногу.
Когда я сам был арестован, в тюрьме я имел случай встретить крестьян, осужденных на 3, 5, и 10 лет ссылки в Сибирь и на Соловецкие острова за так называемую контр-революцию, выразившуюся в неуплате налогов. В апреле 1926 г., когда я был заключен в Псковскую тюрьму, которая носила название исправительного дома труда, я там встретил 9 крестьян, которые были арестованы за невзнос налогов. В тот же месяц я встретил в гор. Острове 17 крестьян, арестованных за то же преступление. Описывая советские тюрьмы, я снова вернусь к крестьянам-жертвам красного террора, населяющим большей частью советские тюрьмы.
Налоги, взваленные советской властью на русское крестьянство, так велики, что часто крестьянин , уплатив их, остается в одной рубашке, и это в буквальном значении этого слова. Вот пример: Аким К., крестьянин Рязанской губ., еще до прихода в Ростов-на-Дону, в качестве каменщика, чтобы заработать на покупку лошади и коровы. Жена его осталась дома, едва сводя концы с концами. Благодаря своему трудолюбию и ее бережливости, Аким К. к моменту прихода сов. власти в Ростов имел уже на что купить 2 коровы и пару лошадей. Как только железнодорожное сообщение наладилось, Аким К. погрузил в вагон купленных животных и кое-какой свой скарб и отправился домой. Я видел его как раз в то время веселым и счастливым, и я говорил с ним до его отъезда. Судите о моем удивлении, когда я снова увиделся с ним некоторое время спустя в Ростове; он был в нищенском и несчастном положении. Он просил у меня работы, и когда я спросил его, — что случилось, он в самых грубых выражениях стал проклинать сов. власть, коммунистов и всех их агентов. Оказалось, что Аким К., собственник пары лошадей и двух коров, был объявлен “кулаком” и обложен такими налогами, что ему пришлось продать не только животных, но вдобавок к этому свой дом и все имущество, и все это для того, чтобы иметь возможность уплатить определенньй ему налог. Он оставил временно свою жену у своего брата Ивана и отправился опять в Ростов. Часть пути он сделал пешком, а часть “зайцем” на площадках товарных вагонов. Он потерял всякую охоту заниматься земледелием и сказал мне положительно следующее: “Нечего сказать, большевики дали мне хороший урок и отняли у меня навсегда охоту заниматься земледелием, они совершенно задушили меня: кроме денег я еще должен был платить натурой. Местный совет обязал меня каждые 10 дней перевозить почту: среди недели меня отрывали от моего поля и заставляли принудительно перевозить за 30, 40 верст коммуниста-комиссара в то время, как мои снопы оставались гнить среди поля под дождем”.
Как только крестьянин работает добросовестно и успешно на своей земле, большевики смотрят на него, как на кулака, перегружают его чудовищными налогами и преследуют политическими угрозами и репрессиями.
Прямое следствие этих приемов то, что крестьяне колеблются развивать и улучшать свое хозяйство, чтобы не попасть в категорию кулаков. Они наполовину уменьшают свою посевную площадь и производят только самое необходимое для своего пропитания. Никакой земледельческий прогресс невозможен при этих условиях. Вот истинная причина того, что Россия, бывшая житницей Европы, теперь почти не вывозит хлеба при сов.режиме, и в сущности сама часто нуждается в привозном хлебе. Экспорт же хлеба производится сов. властью в интересах пропаганды, и вот несколько тому доказательств.
Миссия Нансена, от которой я был представителем на юге России, получала значительное количество муки из-за границы, чтобы кормить голодное русское население. Эта мука прибывала к нам через Ригу и с юга через Новороссийск, пс Черному морю. В 1923 г., когда голод несколько затих, миссия занялась специально оказанием помощи детям и студенчеству. Центральная администрация миссии знала, что в Новороссийске находится запас пшеницы около 5.000 тонн, принадлежащий сов. власти. Мне было поручено вести переговоры с сов. властью о покупке на месте этой пшеницы для нужд нашей миссии. Я знал, что этот запас находился в распоряжении тов. Брайникова, уполномоченного народного комиссариата продовольствия (теперь этот комиссариат упразднен). Полагая, что дело по существу просто и несложно, я делегировал моего секретаря к тов. Брайникову. Однако, секретарь явился с известием, что комиссар категорически отказал в этой продаже. Так как я знал, что этот запас предназначался к вывозу за границу, я поехал лично осветить этот вопрос и выяснить мотивы этого отказа. Брайников меня принял очень любезно, и вот каков был наш разговор:
Я: — “Это правда, товарищ, что вы отказываете, как мне доложил мой секретарь, продать миссии Нансена 300.000 пудов зерна, которыми вы располагаете для экспорта заграницу? Мне кажется, что операция, которую я вам предлагаю, была бы полезна столько же нам, как и вашему правительству. Миссия может вам заплатить ту же цену, какую вы получите на заграничных рынках, и вы сэкономите расходы по нагрузке и фрахту. Сверх того, это зерно даст работу вашим мукомольным мельницам, и не забывайте в особенности, что миссия делает эту закупку для голодающих вашей же страны.
Б: — “Я вполне согласен с вашими доводами, г-Дуйе, но, к сожалению, это зерно имеет совсем другое назначение”.
Предполагая, что советы хотят непременно вывезти этот хлеб, чтобы приобрести заграничную валюту, я ответил тов. Брайникову:
“Если ваша цель — получить заграничную валюту за это зерно, то я вас предупреждаю, что миссия в состоянии вам уплатить по вашему выбору будь то в английских фунтах, или долларах”
Брайников: “Извините меня, г.Дуйе, но хотя мы очень нуждаемся в заграничной валюте, однако цель нашего экспорта не в том: наша настоящая цель — это показать во что бы то ни стало наш хлеб на заграничных рынках, и я предупреждаю вас, что если даже вы обратитесь к центральной власти в Москве, то и там вы получите на ваше предложение отказ”.
Здесь мои переговоры прекратились: как видно, большевицкая пропаганда стоит выше народного страдания и ужасов голода.
Чтобы дополнить эту картину положения крестьянина в сов. России, я расскажу, как производятся выборы в сов. деревне. С первых же дней коммунизма свобода выборов совершенно уничтожена, их не существует в сов. России; есть только выборы насильственные. Я присутствовал многократно на выборах в деревне: откровенное насилие практиковалось на виду у всех, и с оружием в руках заставляли людей голосовать за коммунистический список. Вот картина сельских выборов, которую я наблюдал однажды в станице Новолешковской.
Церковная площадь была черна народом. Посредине возвышалась трибуна, занятая пятью коммунистами, которые представляли местную власть. Товарищ Убикон (председатель месткома) произнес речь. Перечислив все блага, которые коммунизм дал народу, и все чудеса, которые он даст в будущем, он просил перейти к выборам. Вот приблизительно с какими словами он обратился к толпе:
Т.Убикон: “Есть 3 списка, один из них от коммунистической партии. Кто против этого списка — пусть поднимет руку.” Одновременно Убикон и его 4 товарища вынули свои револьверы и оглядели толпы крестьян. Убикон продолжал: ”кто же против этого списка? — Никто. Я объявляю, что коммунистический список прошел единодушно, бесполезно уже голосовать за другие списки…”
Это продолжалось из года в год, и население хорошо поняло, что значит “советское голосование”. Последнее время сов. правительство, желая улучшить свои отношения с крестьянами, которые отказались продавать хлеб для экспорта, уменьшило свои выборные репрессии и допустило некоторую свободу выборов. Обрадованное и благодарное население ответило на эту милость на Кубани, например, тем, что на выборах 1925 г. в сельских местностях были забаллотированы почти везде коммунистические списки. Сов. правительство заволновалось и объявило произведенные выборы незаконными. Были устроены перевыборы и чтобы гарантировать успех за коммунистами, в иных местах до 50 проц. сельского населения было лишено права голосования: как бывшие священники, кулаки и т.д.
Теперешнее положение русского крестьянина под бичом коммунизма кошмарно, и он вполне отдает себе в этом отчет. И потом сельское население поистине антисоветское и антикоммунистическое. По всей стране без исключения одна молитва несется к Богу от каждой деревни: пусть Бог поможет, наконец, падению сов. власти. Худшая из властей будет лучше коммунистической.
Крестьянские волнения никогда не прекращаются в России. Вот один факт, который приезжавшие в Россию иностранцы, конечно, не заметили, но который красноречивее всего свидетельствует о взаимоотношениях сельского населения с сов. властью. На юге и в особенности на Кубани, в каждой деревне на площади возле помещения местного совета можно видеть столб, обернутый соломой, пропитанный керосином или нефтью. Дело в том, что первое, к чему прибегают восставшие крестьяне, — это перерезывание телефонных и телеграфных проводов, дабы лишить возможности местных агентов советской власти вызывать помощь из центра. Вот на этот случай местные агенты и вкапывают столб, обложенный соломой. При первой опасности они зажигают его и тем дают сигнал соседним советским властям.
Как видите, едва ли доверие царит между законной властью и ее избирателями. Советская власть в русской деревне, как в завоеванной стране, поддерживается только силой штыков и террором.